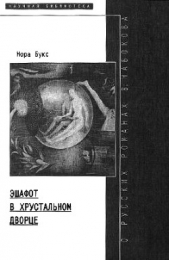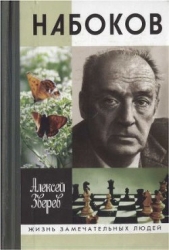Мир и Дар Владимира Набокова

Мир и Дар Владимира Набокова читать книгу онлайн
Книга "Мир и дар Владимира Набокова" является первой русской биографией писателя.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
В конце июля Набоков в Марселе забрел в самой мрачной части города в портовый кабачок, где собирались русские моряки. Никто из посетителей, конечно, не догадывался, что он тоже русский, и вот он писал за столиком письмо Вере Слоним, удивляясь тому, что это он сидит здесь, в ночном порту, куда доносится с моря веянье африканского берега, в кабачке, где звучит грубая матросская речь, он, знающий названья морских рыб, и костей черепахи, и видов растений, он, помнящий наизусть строки Ронсара… — очень любопытное письмо. Набоков словно бы призывает девушку не только разделить его ощущения, но и вместе полюбоваться его столь странной, необычной, неординарной фигурой. После гибели отца оставался только один человек, которому было интересно, сильно ли он загорел и поправился, или что говорят о нем кинозвездочки, когда видят его в кембриджском блейзере. Теперь появился в Берлине еще один такой человек — Вера. А рассказать «о себе, любимом», кому-нибудь, кому ты небезразличен, это ведь совершенно необходимо — особенно если ты давно уже привык быть самым любимым в семье, самым красивым, самым талантливым…
Кабачок этот и марсельские вечера всплыли еще через полгода в его рассказе «Порт».
В августе Набоков вернулся в Берлин и вскоре встретился с Верой. Встречи их стали регулярными, однако она ни разу не приходила домой к Набоковым. Встречались они на улицах и в парках, обживая Берлин, который приобретал для влюбленных особое очарование — у них обоих хватало воображения, чтоб оживить городские пейзажи. «Ночные наши, бедные владения, — забор, фонарь, асфальтовую гладь — поставим на туза воображения, чтоб целый мир у ночи отыграть! Не облака, а горные отроги; костер в лесу — не лампа у окна… О поклянись, что до конца дороги ты будешь только вымыслу верна…» Вот и получалось, что даже Берлин может быть таинственным. Под липовым цветением мигает фонарь. Темно, душисто, тихо. «Тень прохожего по тумбе пробегает, как соболь пробегает через пень. За пустырем, как персик, небо тает: вода в огнях, Венеция сквозит, — а улица кончается в Китае, а та звезда над Волгою висит…» Это из «Дара», где много доподлинно автобиографических страниц о Вере, о любви, о Берлине… [10]
Кроме родных и Веры, он повидался по приезде с друзьями-литераторами, членами их «Братства», в первую очередь — с Иваном Лукашем, с которым они сходятся все ближе. У Лукаша в ту пору псевдоним был совершенно вырский — Иван Оредеж. Объединяла их прежде всего работа. У Лукаша всегда было много разнообразных идей, заказов, и он привлекал к работе Набокова. Энергичный и способный Лукаш вынужден был работать много, у него уже была семья. Роман Гуль (в те годы еще «человек из „Накануне“») писал позднее, что автор доброй дюжины книг (среди них такие, как «Бедная любовь Мусоргского» и «Дворцовые гренадеры»), Лукаш был недооценен современниками. Среди прочих трудов Лукаша была написанная им по заказу жены генерала Скоблина, знаменитой певицы Надежды Плевицкой, ее биография «Дежкин карагод». Деньги на издание дал богатый покровитель Плевицкой Марк Эйтингон или Эйтингтон, друг Фрейда и принцессы Марии Бонапарт. Позднее, два, а может, и все три главных действующих лица этой истории (Плевицкая, Эйтингтон и Скоблин) стали агентами ГПУ, о чем Набоков еще лет через двадцать написал рассказ по-английски. Впрочем, тогда, в 20-е годы, все еще выглядело вполне пристойно: книгу Плевицкой издал высоко ценивший ее Рахманинов, предисловие написал Ремизов, а Лукаш получил столь необходимые для семьи деньги. Набоков был теперь свободный художник и тоже изыскивал самые разнообразные виды литературного заработка. Поэтому он сразу согласился на авантюрное предложение Лукаша — писать либретто для пантомимы, сопровождающей симфонию композитора Якобсона «Агасфер».
В ту осень Набоков написал несколько рассказов — «Звуки», «Удар крыла», «Боги», «Говорят по-русски». Все это — и либретто, и рассказы, и стихи, и шахматные задачи для «Руля» — приносило ничтожно малый доход. Зато ему удавалось продать почти все: что не пошло в «Руле», можно было отослать в Ригу или отдать в «Русское эхо». Тогда же началась и его репетиторская эпопея. Работать приходилось все больше, потому что марка катастрофически падала. В августе 1923 года, когда Набоков вернулся из Прованса, номер «Руля» стоил еще 40000 марок, к декабрю уже двести миллиардов. Русской печати приходилось туго. Начинали мало-помалу разъезжаться литераторы, да и прочий эмигрантский народ. Семья Набоковых тоже решила перебраться в Прагу. Чешское правительство объявило «русскую акцию» — акцию помощи русской эмиграции: пенсии, стипендии для студентов, субсидии русским школам и науке. Политический деятель-русофил Карел Крамарж предложил Елене Ивановне и ее дочери Елене погостить для начала у него на вилле. В декабре к ним уехала и Ольга. Позднее Набоков отвез в Прагу младшего брата Кирилла, бывшую гувернантку сестер, лучшую подругу матери Евгению Карловну Гофельд, а также семейного пса. В Праге Набоковы сняли довольно убогую квартиру, где стояли несколько стульев и диван с клопами. В комнатах было холодно и неуютно. Набоков ворчал, что вот уж он заработает немножко денег и тут же заберет мать обратно в Берлин…
В Праге он познакомился с Мариной Цветаевой. Позднее он вспоминал, что они совершили поэтическую прогулку в ветреный день. Бойд пишет, что «Набоков нашел Марину очаровательной», однако, судя по тогдашним рецензиям Набокова, общего языка они найти не могли.
В Праге Набоков работал над «Трагедией мистера Морна» и, только закончив пьесу, вернулся в Берлин, где занял просторную комнату на третьем этаже пансиона Андерсен на Лютерштрассе. Началась новая, самостоятельная жизнь, полная трудов, радостей, лишений, разочарований, успехов. Забегая вперед, напомним, что Елена Ивановна Рукавишникова осталась в Праге до конца своих дней. Сын так и не забрал ее в Берлин — его случайных заработков никогда не хватило бы на содержание матери, ее подруги, собаки, младших сестер и брата. Он уже сделал свой выбор, когда отказался служить в банке: отказался не только от устройства своих собственных дел, но и от бремени главы семейства. Но кому судить победителя, человека, совершившего подвиг, не зарывшего в землю талант? У него был один долг, который он принимал всерьез: долг перед его безжалостным Даром. И этот долг он выполнял неукоснительно, до самой смерти, тут уж никто не сможет его упрекнуть. Но человеку, всерьез принимающему свой Дар, приходится совершать в своей жизни поступки довольно жестокие, на общебытовом уровне, может быть, даже непростительные…
Пансион на Лютерштрассе оказался вполне сносным. Хозяйка-испанка не домогалась от постояльца ни чистоты, ни дисциплины. Всю ночь он писал, просыпался в одиннадцать, но вставал лишь тогда, когда надо было бежать на урок. Если же он был свободен с утра, он поджимал свои худые длинные ноги и, пристроив тетрадь на коленях, писал. Блаженство этих часов творчества с большим чувством описано в «Даре». О них он ностальгически вспомнил через полвека, выступая в Париже по телевидению…
Работал он много, хотя стихов теперь писал меньше: писал рассказы, не сулившие никакого заработка. Некоторая надежда была у него на театр и на кино: Берлин оставался пока городом театров и киностудий. Его короткие пьесы в стихах никого, впрочем, не заинтересовали.
Вместе с Лукашем он продолжал писать сценарии и либретто. Самым популярным русским кабаре в Берлине была «Синяя птица» Я.Д. Южного, продолжавшая традиции балиевской «Летучей мыши». Для «Синей птицы» Лукаш с Набоковым и написали свою первую пантомиму «Вода живая». Представления начались в январе 1924 года. Однако их финансовые ожидания были обмануты — они не получили суммы, на которую рассчитывали. «Я пишу с Лукашем, пишу с Черным, пишу с Александровым, пишу один», — сообщал Набоков матери в Прагу.
Конечно, главным из того, что он писал в 1924 году, была проза. Она становилась все более «набоковской». Эти рассказики были как бы зародышами его будущих романов, и в них уже было многое из того, что поздней привлекало в его романах, — драгоценные детали и наблюдения, острота переживаний, бурная, плещущая через край радость жизни и пристальное к ней внимание. Пройдет каких-нибудь лет пять, и самые внимательные из русских критиков Набокова (сразу после выхода его первых романов) вспомнят об этих рассказах. Некоторые из его тогдашних рассказов и задумывались как фрагменты будущего романа «Счастье», из замысла которого в конце концов родилась «Машенька»: например, рассказы «Письмо в Россию» и «Благость». В первом из них, совсем крошечном рассказе — ночной Берлин, так хорошо знакомый нам по ранним стихам Набокова: «Прокатывает автомобиль на столбах мокрого блеска… В сыром, смазанном черным салом, берлинском асфальте текут отблески фонарей…» И здесь же, конечно, визжащий берлинский трамвай. Толстая проститутка в черных мехах. Реклама кинотеатра, светлое, как луна, полотно экрана, а на нем — громадное женское лицо с медленной глицериновой слезой. Беззаботная радость, танцы в кабачках. И вдруг: «В такую ночь на православном кладбище далеко за городом покончила с собой на могиле недавно умершего мужа семидесятилетняя старушка». Она повесилась на невысоком кресте: «приставшие желтые ниточки там, где натерла веревка», «серповидные следы, оставленные ее маленькими, словно детскими каблучками в сырой земле у подножья», спокойный кладбищенский сторож — «легкая и нежная смерть», «детская улыбка в смерти» (от смерти молодому Набокову пока не уйти). И сразу после этой «детской улыбки смерти» — бурное признание героя: