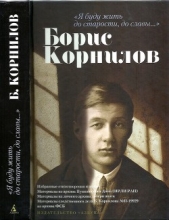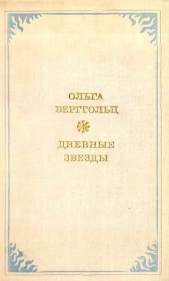Ольга. Запретный дневник.

Ольга. Запретный дневник. читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Командировка «в собственное сердце».
И ведь — он летел на Бухтарму в качестве «авторского надзора» со стороны Ленгидропроекта, он гидротехник, он специалист по бетону и участвовал в разработке проекта плотины — а в скрытой своей духовной жизни — вот он виден пока только мне. Это я, первая, увидела его во всей несгибаемости внутренней, при согбенности внешней (не смог-таки добороться за себя в партии до конца, как хотя бы доборолась я[254], — и в те годы, и в 1954-м, — это не в порядке хвастовства, а в порядке общего «зачета очков» за нашим поколением!
— Я первая увидела его с Китежем, — малой церковкой в душе, — теперь смотрите же на них все…
Вот продолжение моей поэмы пришло ко мне на дом, конец моей книги — так, как он и был задуман, пришел ко мне, — в образе и индивидуальности человеческой.
Ведь по плану-то книга кончается «Узлом» — то есть тюрьмой, то есть испытанием, невиданным в истории человечества, сквозь которое, вернее — из которого человек Первороссийска, дитя коммуны, — вышел с Китежем в душе, пусть безмолвным, бесколокольным, но существующим, реальным… Мой замысел пришел ко мне, и я его испугалась, — настолько это было мое и уже не мое, — двойник, галлюцинация, чудо, — как же так оно уже отделилось от меня, — еще до того, как я его воплотила? Оно уже существует помимо меня.
Но это лишь означает верность ходам моих философских (теперь не побоюсь произнести это слово) суждений и художнических устремлений и планов. Никакой гордыни, никаких самоупоений, но твердое знание своей силы, предназначения и обязанностей. Да, «вас Господь сподобил жить в дни мои…»[255], но вот только теперь видно начало подлинной работы — начало подвига… Ведь я — их память и их язык. «Начало подвига. К нему призвал Господь». Град Китеж… Никакой суетни и никакой болтовни. Не расплескивать, как уже почти начала. Быть может, сказать только все — Юре.
Герой приходит к писателю.
Отлично знаю, что все, пришедшее ко мне и задуманное, идет «на запрет», но надменно улыбаюсь над этим, потому что знаю: это правда и она пройдет. Писать только ее. А если вновь принять за нее утеснения и обиды, — пускай. Принять.
* * *
…Ну и долго же я не отчитывалась в своем летнем путешествии. Иные писатели успели за это время съездить кто в Италию, кто в Индию, кто в Монтевидео, но я была дальше всех этим летом. Я путешествовала в прошлое, настоящее и будущее судьбы моей страны. Моей судьбы.
Я ехала, летела и плыла по следам поэмы «Первороссийск».
Я узнала, что один первороссиянин (о нем речь пойдет впереди) был подростком в Первороссийске и что он — один из тех инженеров, которые возводят плотину и затопляют исторический Первороссийск. Первое российское общество землеробов-коммунаров. Его ядро — Обуховский завод. Второе российское общество землеробов. Ядро — Семянниковский завод. И третье — коммуну «Солнц», или «Солнечное», — тоже питерский. Это почти все люди Невской заставы, места моей родины. И над всем этим сейчас расстилается Бухтарминское море.
…Потом, на катере «Академик Графтио», вместе с двумя работниками райкома и еще двумя журналистами мы шли по Бухтарминскому морю. Работники райкома были местные старожилы и говорили: «Над рощей идем…», «Над второй российской…», «А вот и Первороссийск».
Первороссийск, который с помощью Ленина был создан петроградскими рабочими. До этого мечтали о городе Солнца, о фаланстерах, о коммунизме. Питерские рабочие вон там, на отрогах Алтая, построили эти коммуны. Коммуны — в сердцах людей.
Я попросила причалить к остатку того урочища, которое было Первороссийском. Там, вдалеке, была могила первороссиян, но не первооснователей, а уже колхозников. Ведь на месте разгромленного колчаковцами Первороссийска возник в тридцатые годы колхоз «Первороссийск». И мы дошли до этой могилы. Море, конечно, затопит и этот отрезок земли. Пока мы шли туда, буйство трав и цветов поразило меня. Но это были дикие травы. Выше человеческого роста вздымалась дикая конопля, источая удушающий запах мечты. Почти до колен поднималась полынь со своим страшным запахом разочарования и горя… В лицо хлестали лебеда и бурьян… Так я шла по земле дерзаний, земле мечты.
<Январь, 1961>
* * *
В главе «Твоя любовь» не забывать — Китеж.
Китежане (они же — коммунары, могикане). Возраст тут ни при чем, — это те, кто еще верит в Коммуну и полагает, что строит ее.
Пейзаж Бухтарминского моря. Лунный, неземной пейзаж, созданный человеком («…если б горы от природы были такие маленькие, а то ведь это только верхушки, только вершины. Оставлены одни вершины — изо всей архитектуры, — поэтому такой странный пейзаж»).
Я жадно вслушивалась: зазвонят ли колокола нашего Китежа.
Они благовестили…
…Над затонувшими затопленными коммунами, над градом Китежем идем. (Углич — Китеж. Калязинская колокольня.)
…И не было ни духа, ни остова Коммуны, — не слышно было благовеста, — да, она была опущена на совершенно неподвижную глубину. Нынешний январский Пленум ЦК (янв. 61 г.) ужасающе подтверждает это. Липа, показуха, ложь — все это привело Коммуну к теперешнему ее состоянию. Ложь разрушила ее изнутри. Ложь была противопоказана народу-правдоискателю. Ее ему навязали, — и вот произошло трагическое (о, неужели необратимое?!) разрушение русского характера (точные его слова) — распад русского характера…
Но, быть может, он тоже, как град Китеж, опустился куда-то глубоко и иногда благовестит оттуда?..
<1961>
* * *
«Читая роман Кетли[256], думала, что можно написать роман о цехе фантазеров. Начало 30-х, о том, как строили, строили быт, бытовую коммуну, и ничего не получилось. Это будет архисовременно. Как потом, когда уже ничего не выходило, они стали притворяться, что, напротив, все чудесно получается. Им ведь жаль было мечты. Стали лицемерить и фальшивить, и тут уж окончательно все погибло, и кто-то не выдержал и завопил».
* * *
Ну как, что же дальше? Где же концы и новые начала наши? Но — без всяких преувеличений — кажется, вылезаю. Главное — несмотря на страшнейшую слабость физическую, на ужаснейшее состояние зубов — появляется некоторая внутренняя устойчивость, — вернее, остойчивость, которая отсутствовала начисто перед болезнью. Собственно, перед гриппом я была гораздо более больна, чем сейчас…
Вот в последнем, каком-то, вернее, предпоследнем, движении по завершению сценария — вся и загвоздка, здесь-то и держит меня. Слишком я растянула работу, и слишком комкообразно, рывками шла она, перемежаясь болезнями, выступлениями и бессонницами.
Только не кидаться из стороны в сторону. Осталось железное время на все — на книгу стихов, на зубы, на сценарий и так далее.
Вот опять вскакиваю и начинаю метаться. Стоп. Не могу работать на машинке — все кажется, что мешаю тем, кто за стеной. Звать ли завтра машинистку или справлюсь одна? Сейчас лучше лягу и подумаю — все-таки еще кружится голова. И много надо записать о жизни. И ответить Сереже Наровчатову и Павлу Антокольскому[257] — а Мишеньке Светлову уже не ответить — и написать о Жене Шварце — так, как будто бы и нет ни цензуры, и ничего такого, — написать, как надо — как о части своей жизни, — а как я еще иначе могу писать о нем? Он и Катя не простили бы мне подчисток, фальши приукрашения их, холодности и, главное, постороннести — в решающие моменты жизни Женя был вот такой-то…
Как мы познакомились. Читали в школе рядом с тем домом, где я только что родила от Корнилова Ирку. Он сказал: «А сегодня у меня родилась дочка».
<…>
Из дневниковой записи 7 февраля 1965 года
* * *
Рецензия о «Драконе». Дракон. Разворот. Вот чем он навеки вошел в меня. Начало войны. Война. После войны. А 14 августа 1946 года мое выступление, на другой день прибегает Женя и говорит: «Стоит, шейка такая тоненькая, жалкая и лепечет что-то о том, что неверно рассылают билеты».