Записки
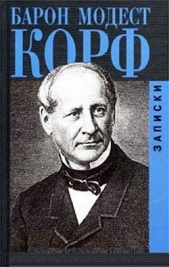
Записки читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Но между тем, пока французские журналы так ораторствовали, дело улаживалось само собою. 7 января 1842 года на бал в концертный зал приглашены были, в составе дипломатического корпуса, и приехали Перрье с женой. Естественно, что после целого месяца опалы общее внимание было обращено на них. Государь, проходя мимо Перрье, сказал: «А, теперь вам лучше!» — и только. Императрица спросила, скоро ли возвратится Барант. Впрочем, одно обстоятельство, которое в другое время прошло бы незамеченным, в этот вечер всех поразило: Перрье с женой уехали хотя после ужина, но во время продолжавшихся еще в присутствии государя и всей царской фамилии танцев. Пока это происходило у нас, подобное же и в то же время повторилось и в Париже. Сперва Киселев приехал на вечер к Гизо и был принят самым предупредительным образом. Спустя день он явился и на Тюльерийский бал, причем во французских журналах тотчас провозгласили, что «король, увидев русского поверенного в делах, который, как кажется, совсем оправился от последнего своего нездоровья, подошел к нему и несколько минут с ним беседовал».
Еще до этого парижские газеты писали: «National»: «Окончания нашей этикетной распри должно ожидать в непродолжительном времени, отозванием г. Перрье, который перешел данные ему инструкции. Ему приказано было только проехать верхом мимо дворца во время торжественного там выхода, а он показался и в театре; поэтому г. Гизо совсем от него отречется, ибо никогда не имел в виду нанести формальное оскорбление русскому двору, а хотел только произвести маленький «scandale»; теперь же, видя, какой серьезный оборот приняло это дело, сам перепугался, а «в страхе господин Гизо ужасен», и бедному Перрье придется дорого поплатиться. Впрочем, совершенного примирения, даже и при пожертвовании господином Перрье, ожидать еще нельзя. Известно, что в высшем петербургском кругу об орлеанской династии отзываются в таких выражениях, которых ни один французский журнал не отважился бы повторить, и что именно оттуда все европейские дворы заражены «брачной блокадой» (blocus conjugal) против принцев нашей младшей линии».
В «La Presse» писали: «г. Перрье не употребит, без сомнения, никаких новых репрессий в день Нового года, и мы надеемся, что положение вещей, только посрамляющее оба двора, не продолжится».
«А мы, — возражал «National», — этого не надеемся или, по крайней мере, не желаем: ибо если в теперешнем положении вещей посрамление обоюдно, то никак не должно отступать; иначе весь ущерб падет на долю одной Франции».
Перрье оставался, однако же, в Петербурге еще до следующего сентября (1842 года), да и тогда не был отозван, а сам отпросился в отпуск, за болезнью своей жены, и при увольнении получил орден Почетного Легиона и обещание первого вакантного министерского поста.
За отсутствием начальника 2-й гвардейской пехотной дивизии Гурко должность его в зиму с 1841 года на 1842 год исправлял генерал Афросимов, а с наступлением весны она была поручена наследнику цесаревичу. Объявляя об этом на разводе, государь шутя сказал Афросимову, что надеется, что он не вызовет за то «Сашу» на дуэль, и во всяком случае теперь же заявляет, что он, государь, с своей стороны, отказывается быть секундантом.
23 апреля умер главноуправлявший путями сообщения и публичными зданиями генерал-адъютант граф Карл Федорович Толь. В нем Россия потеряла одно из примечательнейших в военном отношении и, конечно, исторических лиц. Не распространяясь здесь о тех обстоятельствах славной его жизни, которые можно найти и в послужном его списке и в разных печатных биографиях, ни об участии его в окончании печального восстания 14 декабря 1825 года, уже рассказанного в другом месте [61], передам здесь преимущественно то, что слышал о нем из достоверных источников и что знал лично из моих с ним сношений в течение почти девяти лет, по Комитету министров и Государственному Совету.
Наружность графа Толя очень мало обещала. Невысокого роста, но плечистый и ширококостный, так что казался довольно объемистым; с лицом, хотя не безобразным, однако очень простым, которое оживлял лишь огненный его взгляд; в полурыжем гладком парике, который он снял только после поразившего его в 1839 году апоплексического удара; наконец, с ухватками и приемами, заимствованными несколько от старинного хвастовства; ничто в его фигуре не намекало на что-нибудь гениальное.
Между тем все, следившие за его военным поприщем, все, видевшие его на поле сражения, единогласно называли его одним их первостепенных полководцев нашего века. При львиной личной храбрости он был отличный стратег, обладал огромными сведениями тактическими и имел весь огонь, весь гений истинного военачальника. В 1812 году, по отступлении армии от границы к Дриссе, он, еще в полковничьем чине, назначен был генерал-квартирмейстером главной действующей армии, а по прибытии князя Смоленского — генерал-квартирмейстером всех действовавших против неприятеля войск. Знаменитое движение на Калугу было плодом его соображений; Мюрат был разбит при Чернишной по начертанному им плану; наконец, в Польскую кампанию Толь решительно содействовал к одержанию победы под Остроленкой искусным расположением главной батареи, а в деле под Варшавой, после полученной князем Паскевичем в самом ее начале контузии, 26 августа один командовал армией до самого утра 27-го числа и после заключенной капитуляции один же ввел войска в город. Вспыльчивый до бешенства в обычной жизни, он в начале дела становился вдруг ледовито-хладнокровным, и это хладнокровие не оставляло уже его ни на минуту во все продолжение сражения; но с последним пушечным выстрелом возвращалась к нему опять и вся запальчивая его горячность.
Князь Смоленский был всегда искренним его другом и почитателем его дарований; но не таковы были отношения к нему графа Дибича и потом Паскевича. Князь Васильчиков, один из усерднейших ценителей талантов Толя и близко знавший и его и Дибича, рассказывал мне, что они оба издавна соперничествовали друг с другом и не таили взаимной своей ненависти. Перед началом Польской кампании государь собрал у себя род военного совета из него, Васильчикова, князя Волконского и графа Толстого. Тут, когда положено было послать главнокомандующим Дибича, родился вопрос: кого дать ему в начальники главного штаба? Государь сам предложил Толя; но общее мнение было, что это значило бы соединить воду с огнем, т. е. в самые тесные, требующие совершенного единодушия отношения, поставить двух отъявленных врагов. Государь ответил, что он призывал уже к себе Толя и что последний, в сознании опасности отечества, обещал не только безусловно подчиниться Дибичу, но и действовать во всем как вернейший и преданнейший его друг. И действительно, он рыцарски сдержал свое слово! [62]
Но с преемником Дибича, Паскевичем, Толь не сошелся с первой минуты и до конца жизни оставался в явной вражде. Толь считал Паскевича ниже себя по военным достоинствам, а тщеславный Паскевич ненавидел в нем нескрываемое превосходство. Вскоре по вступлении Паскевича в командование армией, действовавшей против польских мятежников, Толь писал к графу (теперь князю) Орлову (я слышал это лично от графа), прося его довести до высочайшего сведения, что новый главнокомандующий действует не в своем уме, что все его поступки и распоряжения превратны и что, если так продолжится, то нельзя отвечать ни за исход кампании, ни даже за спасение армии. Письмо это Орлов представил государю, и Толю сделан был, по выражению графа, «строгий нагоняй». После это заглушилось удачами кампании и взятием Варшавы; но современная лесть [63] несправедливо отнесла последнее к заслуге Паскевича [64]; сам же Паскевич, достигший между тем апогея величия, еще более возненавидел соглядатая его действий и соперника в разделе славы. Толь, впав если не в явную немилость, то, по крайней мере, в полузабвение, никогда уже не мог оправиться при дворе, где, говоря, что отдают справедливость его достоинствам, наблюдали в отношении к нему не более как одно холодное уважение [65].


























