Записки
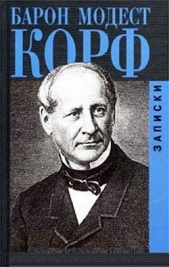
Записки читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Все, что можно сказать об этом портрете, это то, что он был все еще ниже истины. Француз, и притом тогдашний француз, привыкший к конституционным королькам, не мог вполне судить о бремени, лежащем на самодержавном монархе огромной России; а кто нес это бремя добросовестнее, благоразумнее, могущественней Николая! Независимо от высших качеств, которые могли быть оценены одними русскими, и из них, преимущественно, одними приближенными, в наружности, в осанке, в беседе, во всех приемах императора Николая были, действительно, какое-то обаяние, какая-то чаровавшая сила, которых влиянию не мог не подчиниться, увидав и услышав его, даже и самый лютый враг самодержавия.
С самого вступления на французский престол короля Людовика Филиппа император Николай, первый и постоянный охранитель законности, не таясь, оказывал во всех сношениях с парижским двором неприязнь свою и к лицу монарха и к его династии. Так, при формальных там траурах из числа всех посланников один наш освобождал себя от их соблюдения; после повторявшихся несколько раз покушений на жизнь короля все дворы изъявляли — через нарочных или, по крайней мере, посредством писем — радость свою о неудачах преступных замыслов, а наш всегда безмолвствовал; то же самое было при рождении графа Парижского, при браках дочерей и сыновей королевских и проч. В противоположность сему, Людовик Филипп, с своей стороны, не изменял никогда уважительного поведения в отношении к нашему двору, несмотря на вопли сильной партии, видевшей в поступках русского императора оскорбление национальной гордости, и вопреки настояниям Тьера и других министров.
В конце 1841 года наш посол граф Пален оставил Париж и приехал в Петербург незадолго до дня рождения короля. В газетах тотчас нашли этому причину. Принято было в этот день являться перед королем всему дипломатическому корпусу, причем старший из наличных послов приветствовал его поздравительной, от имени всех, речью. Роль эту издавна исполнял австрийский посол граф Аппони; но в 1841 году он был в отпуску, и место его приходилось заступить, по старшинству, графу Палену, а он вдруг оставил Париж: следственно, уехал, чтобы не поздравлять короля, что истолковано было как новое оскорбление, нанесенное лично последнему, а с ним вместе целой Франции. Того же мнения было и министерство, и при необходимости, ввиду приближавшегося открытия камер, поддержать его, Людовик Филипп нашелся вынужденным, уступив общим настояниям, выйти из своего пассивного положения. 6 декабря, в день тезоименитства императора Николая, дипломатический при нашем дворе корпус приглашен был собраться во дворец для принесения поздравлений, после обедни, т. е. к 12 часам. Не ранее как в 10 часов утра того же дня в министерство иностранных дел принесли записку французского поверенного в делах Казимира Перрье (посол Барант был тогда в отпуску), которой он извещал, что по случаю «внезапного недомогания» как сам он, так и все чины французского посольства не могут явиться ни к поздравлению, ни к назначенному на следующий день придворному балу, — что действительно и было ими исполнено, хотя потом, 8 числа, Перрье и все его чиновники гуляли публично по Невскому проспекту, а вечером явились даже в театр. Разумеется, поскольку этот случай был неприятен государю, столько же он произвел шуму и толков в нашей публике, и что чины французского посольства этим невольным с их стороны действием тотчас исключили себя из круга нашего высшего общества, т. е. что все единодушно согласились никуда их более не приглашать. Одна только графиня Воронцова [60], это своевольное и шаловливое дитя, говорила, что «она не смешивает политики и приглашает на свои вечера лиц, которые доставляют ей удовольствие, не обращая внимания на их дипломатическое поведение».
Этот остракизм не мог, однако же, разумеется, простираться на публичные места, куда доступ свободен всякому. Так, Перрье явился на бал Дворянского собрания, бывший 16 декабря. Государь, который стоял с статс-дамой баронессой Фредерикс, увидев его, сказал ей по-немецки: «Это он!» — и потом прошел мимо с тем царственным, самодержавным величием, в которое так умел при случае облекаться, не удостоив его ни одним взглядом. Дальнейшие известия об этом неприятном столкновении публика наша — разумея тех ее привилегированных членов, для которых нет цензуры, — получала только через иностранные газеты.
Первый заговорил «Moniteur Parisien», журнал хотя и неофициальный, однако принадлежавший министерству. «Сказывают, что г. Киселев, русский посланник (т. е. поверенный в делах) в Париже, — писали там, — в Новый год не явился в Тюльери к общему представлению дипломатического корпуса. По собранным нами сведениям, оказывается следующее. Русский посол во Франции, граф Пален, в ноябре был отозван в Петербург, и предполагаемая, неоспариваемая причина (motif non conteste) сего отозвания заключалась в нежелании императора, чтобы граф как старший член дипломатического корпуса приветствовал короля. 18-го (16-го) декабря, в день рождения императора, г. Перрье и прочие чины французского посольства занемогли и не явились в Зимний дворец. 1-го января занемог в свою очередь г. Киселев и не явился в Тюльери».
«Preussiche Staats-Zeitung», поместив на своих страницах означенную статью, прибавила, что, по общим слухам, она была последствием весьма горячего объяснения между Киселевым и Гизо. «При всей важности предмета, — продолжала прусская газета, — отданное обоим посольствам приказание быть в известный день больными и, еще более, публичное оглашение этого приказания кажутся всем частью очень забавными, частью же недостойными державы столь могущественной, какова Франция. Дипломаты говорят, что если такие вещи иногда и приказываются, то никогда однако же не публикуются. Утверждают, впрочем, что помянутая статья до того прогневила русское посольство, что г. Киселев тотчас отправил курьера в Петербург за новыми инструкциями и известил г. Гизо, что в ожидании их прекращает все дипломатические сношения с французским кабинетом».
На другой день после вышеприведенной статьи «Moniteur Parisien» напечатано было в «Journal des Debats»: «Мы прочли вчера известие, сообщенное одной вечерней газетой, о причинах, воспрепятствовавших русскому поверенному в делах явиться в Новый год в Тюльери, и не придаем ему никакого особенного значения. Нам не верилось и теперь не верится в его официальность. Что графа Палена отозвали в Петербург, чтобы не приветствовать короля июльской революции, это очень вероятно; что его наместник, г. Киселев, занемог в тот день по приказанию, это тоже возможно. Но мы не знаем и не верим, чтобы французское правительство, в виде возмездия, прибегло к той же системе и велело и своему агенту в Петербурге занемочь в день рождения императора. Подобная война между могущественными державами была бы для нас непонятна. Если бы Франция сочла себя оскорбленной поведением русского кабинета, то отозвала бы своих агентов, на что имеет и право и обязанность; но к такой мелочной тактике не обращаются для ратоборства между собою два сильных правительства: это было бы ребячеством и уничижением. Мы понимаем заботу и подозрения, возбужденные в Европе июльской революцией; понимаем также и опасение, которое должен был ощутить русский император при перемене нашей династии, и потому в первую минуту не могли требовать от него ни доверия, ни приязни.
Но время взяло свое: Пруссия, Австрия, Англия, все державы при каждом случае доказывают ту высокую доверенность, которую внушает им наше правительство и наш король. Зачем же только русскому императору оставаться при прежнем своем нерасположении? Зачем ему одному упорствовать в непризнании заслуг, оказанных нашим правительством делу монархизма и общего мира? Зачем ему одному систематической неприязнью протестовать против нашей славной и неизбежной революции? Но чем более мы жалеем, что монарх великой державы идет таким путем, тем более мы должны избегать совпадения с ним на этом пути. Если, чего мы, впрочем, не думаем, дружественная и взаимно вежливая связь с русским кабинетом впредь уже невозможна, то, повторяем, Франции не останется ничего иного, как прервать всякое официальное сношение. Лучше совсем отозвать от чужестранных дворов наших агентов, чем, вместо назначения их быть вестниками мира и доброй приязни, оставлять их при одной только роли переносчиков обоюдной щекотливости. Такой разрыв не был бы еще войной, тогда как нынешние двусмысленные отношения беспрестанно грозят миру. А мы только и желаем мира, мира постоянного и честного, равно охраненного как от страстей народных, так и от капризов владык».


























