Кудеяров дуб
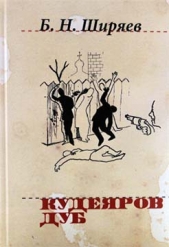
Кудеяров дуб читать книгу онлайн
Автобиографическая повесть по мотивам воспоминаний автора о жизни на оккупированном фашистами Кавказе.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Однако и в вас порою закипает страсть. Не ожидал, и интересно, что возбуждает ее Женя, — повернулся к Котову Вольский.
— Но в обратном направлении, чем бывает в романах, — отпарировал Котов.
— Михаил Матвеевич, теперь я в вас влюблена, — поставила перед ним стакан Ольга, — самый большой кусок лимона вам положу!
— Бесполезно, Ольга Алексеевна, — продолжал подшучивать Вольский, — это только мгновенная локальная вспышка, а дальнейшему развитию романа и лимон не поможет. Бесполезно!
— Но зато и, безопасно, — принял его тон Котов. — А мне польза, — поднес он стакан под тоненький ломтик лимона, редкостный теперь деликатес.
— Фронт под Новороссийском или советы оттеснены к югу? В чьих руках Сочи? По сводкам это неясно, — обратился к Брянцеву Вольский.
— Вполне понятно, — ответил Брянцев, — с юга советы под самым городом и даже в нем. Сколько-то матросов-черноморцев засело в шахтах цементного завода, и немцы ничего с ними не могут поделать. Сходное положение и под Керчью. Там тоже какой-то отряд не успевших эвакуироваться черноморцев оперирует чуть ли не на самой горе Митридата.
— А молодцы всё-таки наши матросы, — порывисто воскликнула Ольга. — Враги они мне, ненавижу и вместе с тем восхищаюсь. Русские ведь, свои…
— Для вас, Ольга Алексеевна, ясна черта, разграничивающая русское от советского? — серьезно спросил Вольский. Было видно, как самого его волновал этот вопрос.
— Конечно, ясна, совершенно ясна, — быстро ответила Ольгунка, но вдруг смешалась и растерянно обвела всех глазами, — или нет.
— Не ясна. Вот все время совершенно ясно было, а сейчас, как представила себе эту горсточку матросов, засевших в каменоломнях, окруженных, обреченных, но не сдающихся. Ведь это тоже севастопольцы, нахимовские моряки, ихняя плоть и кровь! Тут все слилось — исчезла грань. Смылась. Растаяла… — все тише и вместе с тем глубже вытаскивала откуда-то изнутри нужные слова Ольга.
Брянцев, засунув руки в карманы, перекачивался с носков на каблук. Он внимательно смотрел, как менялось выражение лица жены.
— Итак, уважаемая моя супруга, пламенная русская националистка и патриотка, бескомпромиссный враг советов и всего советского, и вы соизволили признаться в утрате этой разграничительной черты?
Брянцев вынул руки из карманов и уперся ими в бока.
— А от других вы продолжаете требовать точного ее знания? Хотя бы от Жени Зерцаловой, у которой в голове действительно все смешалось? Так соизвольте же понять, что двадцать пять лет существования советского режима — не шутка, не только случайный, мерзкий эпизод в русской истории, как вы думаете, а сдвиг, большой глубокий сдвиг в психике русского человека.
— Нет, нет, нет! — замахала руками Ольгунка. — Это в тебе опять интеллигентская рефлексия голос свой подает.
— Не рефлексия, а начальная арифметика. Тебе за сорок.
— Сорок два!
— Ты вступила в советскую жизнь вполне сформированным человеком, законченной личностью и все же? А те, кому сейчас двадцать, двадцать пять, тридцать лет, кто в октябре пешком под стол ходил, тем как найти это разграничение, а?
— Я только вот сейчас. Случайно его потеряла, — оправдывалась Ольга, — но я найду, найду, — притопнула она ногой. — Подумаю, загляну к себе в душу и найду.
— Трудно вам это будет. — Тихо вымолвил Вольский, — а нам, нашему поколению еще труднее.
— Нет, — покачала головой Ольга, — нетрудно. Эта разграничительная черта сама скажется.
— Как? Где? Когда?
— Когда сами мы, мы сами, мы — русские, вступим в борьбу с советами. До сих пор ведь воюют одни немцы, а мы так — сбоку припеку, туда-сюда.
— И в целом никуда. Смею заверить, так и останется, пока Россия не вступит в климат демократической свободы. Надежд же на установление такого климата немцами абсолютно никаких, — вмешался в разговор Змий. — Сменим советы на немцев — и только.
— К черту вашу демократическую панацею, Василий Иванович, — прервал Змия Брянцев, — я-то ведь помню февральский хаос, шок, паралич всех сил и органов нации, кроме одного только языка. Хватит с нас! Если так, то избираю немецкий сапог, он, по крайней мере, крепкий, надежный, а не советский с дырявой подошвой и тем более не на расползающемся демократическом картоне!
— Ну, это как сказать, — крутил свою бородку Змий, — конечно, дело вкуса. А о вкусах, как известно, не спорят.
Три месяца назад, когда редакционный коллектив формировался и начинал работу, политических расхождений во взглядах сотрудников не чувствовалось. Всеми владел один и тот же порыв протеста против советчины. Не было разнобоя и в отношениях к немцам: все присматривались к ним, прищупывались и, кто робко, кто смелее, пытались оспаривать некоторые, явно нелепые тенденции розенберговской пропаганды. Но в дальнейшем, когда каждый из сотрудников достаточно твердо и ясно определил свое отношение к оккупации, наметил линию своего политического поведения, сказалась и разница политических взглядов на современное и будущее России.
Брянцев, рожденный и проведший молодость в черноземной полосе России, в традициях близости к крестьянству, к земле, к порождаемой ею стихийной силе, видел возможность возрождения России только в соках этой земли и добытчика их — свободного крепкого крестьянина, которого выращивали Столыпин и последний император. Строй крестьянской монархии мерцал ему неопределенно, но манящим светом. В нем он видел будущее, чисто русское, самобытное, отысканное и построенное без займов у Европы. Немецкое иго и запроектированное Розенбергом расчленение России его не пугали. Он слишком сильно верил в органическое единство народов Российской семьи, в возглавляемую Великороссией единую, общую их культуру, как в цемент этого единства. А временное засилье немцев? Конечно, только временным оно и может быть. Не по плечу сосну рубят. Не раз такие попытки бывали в русском прошлом и всегда с одним и тем же результатом. Пока же, кроме немцев, нет силы, которая смогла бы сломить советчину.
Ярым его противником был Змий-Крымкин. Провинциальный интеллигент, с раздраженным, неудовлетворенным самолюбием, он всегда, всю жизнь чувствовал себя чем-нибудь ущемленным. Его психический аппетит всегда превышал возможность удовлетворения его извне. Он это чувствовал и всегда, во всем искал обходных путей. Когда не находил их, что случалось нередко, страдал от своей ущемленности и вместе с тем любовался ею, видел в ней подтверждение своего личного превосходства над серым середняком. Панацеей от всех болезней России считал только демократическую республику, но и здесь был тоже теперь ущемлен: на развитие демократии в послевоенной России Гитлер не давал никаких надежд. Поэтому Змий остро ненавидел немцев и злобно шипел на них при каждом удобном случае, конечно, не в печати.
Вольский признавался откровенно, что у него совсем нет политических идеалов. Прежние, комсомольские, рухнули. Новые еще не выработались. Единственное, чего он хотел для освобожденной России, это установления в ней твердой власти.
— Пусть монархия, пусть даже военная диктатура, — говорил он, — но без поножовщины, без братоубийства, без грабежа. Скорее к мирной обывательщине, потому что все устали.
На почве этих разногласий нередко возникали споры о направлении газеты. Спорили главным образом Брянцев и Крымкин при непременных страстных репликах Жени. Котов при этих спорах хранил полное молчание. Политическая направленность газеты занимала его гораздо меньше, чем возможность выпуска толстого беллетристического журнала. А с ним не ладилось: материала было в избытке и вместе с тем … его не было. В редакционном портфеле этого журнала, бережно хранимом Котовым в его столе, лежали три тетради лирических стихов Елены Николаевны, автобиографическая повесть самого Котова, развернутая на фоне его пребывания в ссылках и тюрьмах НКВД, ворох такого же рода воспоминаний меньшего объема и сниженного литературного уровня. Больше ничего.
— Это вполне естественно, — говорил Брянцев, — когда человеку больно, нестерпимо больно, он может только кричать и только о своей боли. Только. Но заполнять этим криком двести страниц журнала, им одним, конечно, нельзя. Будем ждать.
























