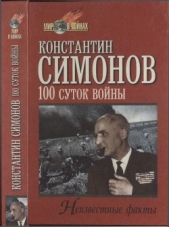Война: ускоренная жизнь

Война: ускоренная жизнь читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Люди и нелюди
Тяжелейшая обстановка, постоянное голодное существование и такая же постоянная возможность быть убитым без всякой на то причины в лагерях военнопленных быстро отделяли «зерна» от «плевел», определяя, кто в действительности чего стоит. Высочайшие проявление человеческого духа перемешивались здесь с беспредельно-подлыми поступками, и вместе они составляли по существу всю жизнь лагеря, главным стимулом в которой была еда.
Попавший в августе 1941 года из окружения в Уман-ский лагерь военнопленных командиров Красной армии поэт Евгений Долматовский написал позже в своей книге «Былое»:
«Мы все оставались голодными, однако те, кто не мог встать, не были обделены своей порцией. Всеми правдами и неправдами их соседи по месту на земле добывали баланду и для них. Труднее было с хлебом. За время моего заточения в Умани хлеб давали лишь несколько раз. Это был стандартный хлеб, которым снабжался вермахт: прямоугольные булки в вощеной упаковке. Нам доставался этот хлеб в уже заплесневелом, разгерметизированном виде. Если не удавалось достать пайку хлеба для товарищей, разламывали пополам свою.
Но один командир, лежавший на твердой и горячей земле, не брал в рот ни крошки. Это был интендант первого ранга — кажется, фамилия его была Зингер. Длинный (я не могу сказать высокий — я не видел его стоящим на ногах), костлявый человек лет сорока, начальник одного из отделов армейского штаба, кадровый офицер.
В сороковые годы мы как-то не замечали национальности советских людей, и мне даже показалось странным, когда кто-то сказал, что Зингер — обрусевший немец из Ленинграда.
Но Зингер помнил о том, что он немец.
Когда товарищи приносили ему еду или воду, он тихо, но твердо отказывался. Он слабел с каждым днем и как бы срастался с землей, на которой лежал.
— Никто не заметит вашей голодовки, — говорили ему товарищи. — Это даже не бунт на коленках, это бунт лежа.
— Видите ли, — отвечал Зингер, поправляя чудом сохранившееся старомодное пенсне, — я немец, и когда они узнают об этом, чего доброго, еще воспользуются моим именем для какой-нибудь поганой листовки. Единственный способ самоубийства — пусть с опозданием, но наверняка, — это ничего не есть, не прикасаться к воде.
Он так и умер от голода и жажды, этот советский немец».
И еще несколько воспоминаний побывавших в нацистских лагерях людей. Воспоминаний о высоком и низком, вперемешку, как оно и бывает в жизни.
Иван Головин (попал в плен в 1942 году под Сталинградом):
«Пригнали нас на станцию в Закавказскую. Принимал «комендант» с псом, и около, сзади, 3–4 холуя (полицаев). На вышках — пулеметы. Привезли кукурузную муку, вывалили в грязь, сказали: ест! ест! Все бросились, набивают в рот муку (попробуйте, дорогие.) и… холодная вода.
На работу выгоняли мало. В одном месте грузили сено-пакеты и зерно в вагоны. Тогда могли в вещмешки набрать зерна. Немцы равнодушно смотрят, смотрят, приложатся — выстрел! Одного убьют. Через 5 минут снова кто ближе, гребут в свои вещмешки; снова выстрел! Потом опять гребут. Убитых оттащат, где-то засыплют. И я забегал, быстро — секунд 10 — и полмешка, и бежать! Что удивительно: в колонне видно, у кого зерно, но не отбирали. Переводчик, убивавший сам на зерне в день по 2–3 человека, говорил: мы любим рисковых»
Борис Соколов (ленинградский ополченец, попал в плен летом 1941 года):
«Под вечер произошел необыкновенный случай. Совершенно незнакомый и неизвестный человек протянул мне горсть капустных листьев. Я озадаченно спросил:
— Но у меня ничего нет, чем тебе заплатить?
— Не надо ничего, ешь на здоровье.
И ушел. Первым был чисто животный импульс — я тут же эти листья съел, и только потом заплакал, потрясенный человеческой добротой. Это так необыкновенно — разделить с чужим то, что нужно самому.
На скамеечке дремлют конвойные немцы, чаще — один, которого зовут Август. Август — славный старичок, ни во что не вмешивается и ни к кому не пристает. К концу дня всегда приносит что-нибудь съестное, раздобытое им в немецкой казарме или на немецкой кухне. Это недоеденный обед, собранный им, по-видимому, с множества тарелок и котелков, хлебные и сырные корки. Из кухни — тресковые головы и хвосты, разные кости и прочие отходы. Все это он тщательно и аккуратно собирает, а потом нам раздает, строго соблюдая очередность — сегодня одним, завтра — другим».
Так что даже на той страшной войне понятие «свой» и «чужой» не всегда определялось национальностью. Яровчанин Николай Лобанов рассказывал, что во время его пребывания в одном из лагерей Западной Германии у них в бараке появился новый начальник. Здоровеннейший хохол, любимым развлечением которого было очертить большим кругом флягу с обеденной баландой и скомандовать: «Десять кругов, бегом марш!».
Какие там десять! И пять кругом никто не мог пробежать. Раз так, значит не голодные. Сапогом по фляге, все на землю, обед окончен. Так продолжалось несколько дней, а затем любителя «спортивных мероприятий» нашли зарезанным. Сделано было все «чисто», виновных не нашли.
А вот у попавшего в плен в Мясном Бору красноармейца Николая Путина в такой же примерно ситуации все получилось не столь «чисто», хотя судьба в итоге и оказалась к нему милостивой.
«Привезли нас в лагерь. На работу в лес гоняли дороги восстанавливать, — вспоминал он. — Кормили плохо: 200 г хлеба-эрзаца да по черпачку баланды из буряка с костной мукой. «Хоть бы накормили раз, да расстреляли!» — говорили мы. Услыхал это полицай — низенький такой, сытый, с шахты Макеевка. Донес. Пришел немец и — всему бараку: «Nicht fressen!».
Три дня не ели, а работали. Решили мы того полицая придушить. Вшестером навалились, да он, иуда, крикнуть успел. Немцы сбежались, спрашивают: «Кто начинал?» Полицай показал на меня, Павла Мельникова из Воронежа и Ивана из Новосибирской области.
Утром вывели нас перед строем расстреливать. Напротив трех автоматчиков выставили. В меня должен был стрелять Ганс. А надо сказать, мы с этим Гансом успели к тому времени познакомиться. Он был электросварщиком из Мюнхена. В 30-е годы по обмену опытом в Ленинграде работал, по-русски говорил, о нашей стране хорошо отзывался.
И вот как раздалась команда: «Заряжай!», Ганс не стал даже копылка с дула снимать, а заругался, заматерился — суда потребовал. Было это уже после Сталинграда»
И был суд, решением которого Николай Путин сотоварищи получили по 23 года каторжных работ под землей, при том, что самому фашизму оставалось «жить» два года.
После Сталинграда
Замечание Николая Путина о том, что событие, им рассказанное, произошло после разгрома немецкой армии на Волге, совсем не случайно. По воспоминаниям многих из бывших военнопленных, после Сталинграда отношение к ним со стороны и отдельных охранников, и лагерных администраций, как правило, изменилось в лучшую сторону. Победа Германии в этой войне уже не казалась большинству немцев делом очевидным, и приходилось вольно или невольно задумываться о том, что будет, если рейх рассыплется под ударами союзников и за свои деяния придется-таки отвечать. Впрочем, так думали далеко не все, имелись среди надзиравших за пленными людей и до конца преданные фюреру нацисты, и попросту любившая покуражиться над людьми сволочь разномастной национальности.
Во второй половине войны в каждом из двадцати одного округа Германии размещалось 15 лагерей для военнопленных — шталагов, 46 таких лагерей было на Украине, около 30 — в Польше, десятки — в оккупированных фашистами странах Западной Европы. И это не считая пересыльно-сортировочных лагерей — Дулагов.
Попавший в плен в мае 1942 года под Харьковом младший лейтенант Дмитрий Небольсин летом и осенью 1943 года находился в шталаге-2А недалеко от Берлина, об этом времени он вспоминал так:
«Медленно тянулась наша безрадостная, голодная жизнь. Меню не менялось: утром, в обед и вечером все та же баланда из брюквы и дважды в неделю — килограммовая буханка эрзац-хлеба. Брюква настолько надоела, что при одном виде ее в голодном желудке возникали мучительные спазмы, становилось муторно, того и гляди, вырвет. А есть все равно надо, иначе сдохнешь. И ели, через силу запихивая в свою утробу куски ненавистной брюквы. Эрзац-хлеб оставался хлебом, который поддерживал жизнь невольников. Но от нашей крохотной пайки хлеба полицаи каждый раз урывали для себя, как они выражались, положенную долю. Попробуй, запротестуй — тут же будешь избит до полусмерти. За нас заступиться было некому, немцы на дикость полицаев смотрели сквозь пальцы, даже поощряли их за жестокость».