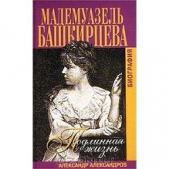Дневник Марии Башкирцевой

Дневник Марии Башкирцевой читать книгу онлайн
Мария Башкирцева (1860–1884) — художница и писательница. Ее картины выставлены в Третьяковской галерее, Русском музее, в некоторых крупных украинских музеях, а также в музеях Парижа, Ниццы и Амстердама. «Дневник», который вела Мария Башкирцева на французском языке, впервые увидел свет через три года после ее смерти, в 1887 г., сначала в Париже, а затем на родине; вскоре он был переведен почти на все европейские языки и везде встречен с большим интересом и сочувствием.
Этот уникальный по драматизму человеческий документ раскрывает сложную душу гениально одаренного юного существа, обреченного на раннюю гибель. Несмотря на неполные 24 года жизни, Башкирцева оставила после себя сотни рисунков, картин, акварелей, скульптур.
Издание 1900 года, приведено к современной орфографии.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Кончив, я спросила его, к какой партии примкнул бы он, и этот разбойник отвечал мне:
«Я бонапартист!»
Вот как он рассказывает все то, чему я его научила: последним королем был Людовик XVI, который был очень добр, но республиканцы — люди, ищущие денег и почестей, казнили как его, так и жену его, Марию-Антуанету, и учредили республику. Франция была в это время очень ничтожна; а на острове Корсике родился, между тем, человек, Наполеон Бонапарт, который был так умен и храбр, что его избрали сначала полковником, потом генералом. Он покорил весь мир, и французы очень любили его. Но отправляясь в поход на Россию, он забыл взять шубы для своих солдат, и они очень страдали от холода; русские-же сожгли Москву. Тогда Наполеон, бывший в это время уже императором, возвратился во Францию; но так как он был несчастлив, а французы, которые любят только тех, кому благоприятствует счастье, больше не любили его, то и все остальные государи, чтобы отомстить ему, принудили его сложить с себя власть. Тогда он отправился на остров Эльбу; потом, на сто дней он возвратился, было, в Париж, но его опять заставили спасаться бегством. Увидев одно английское судно, он стал умолять экипаж его о спасении, но едва он взошел туда, его объявили пленником и отвезли на остров св. Елены, где он и умер.
Уверяю вас, что Шоколад был во многом прав.
Наконец, сегодня утром мы прибыли в Берлин. Город произвел на меня в общем впечатление приятное. Дома очень красивы.
Не могу написать сегодня ни слова толком; дорога ужасно утомляет.
«Два чувства свойственны натурам гордым и любящим — величайшая чуткость к мнению о них и величайшая горечь, когда, мнение это несправедливо».
Пятница, 28 июля. Берлин напоминает мне Флоренцию… Позвольте — он напоминает мне Флоренцию, потому что я опять с тетей и веду тот-же образ жизни.
Прежде всего мы осмотрели музей. Ничего подобного я не ожидала встретить в Пруссии — может быть по невежеству, может быть по предубеждению.
По обыкновению, статуи удержали меня всего дольше, и мне кажется, что я обладаю какой-то особенной, большей, чем у других людей, чуткостью в отношении понимания статуй.
В большой зале находится одна статуя, которую я приняла за Аталанту, вследствие пары сандалий, которые могли бы выражать здесь главную идею; но надпись гласит, что это Психея. Все равно, Психея или Аталанта, — это замечательная фигура по красоте и естественности.
Осмотрев греческие гипсы, мы прошли далее. Глаза и голова моя уже устали, и я узнала египетский отдел только по его сжатым и беглым линиям, напоминающим круги, произведенные на воде падением какого-нибудь предмета.
Ничего не может быть ужаснее, как быть где-нибудь с человеком, которому скучно то, что для вас интересно. Тетя скучала, торопилась, ворчала. Правда, что мы проходили там два часа!.. Что очень интересно, так это исторический музей: миниатюр, статуй, древних гравюр и миниатюрных портретов. Я обожаю это. Я обожаю эти портреты, и глядя на них, фантазия моя делает невероятные путешествия, создает различные приключения, драмы…
Но довольно…
Затем картины.
Мы достигли времени, предназначенного для крайнего усовершенствования живописи, — идеала искусства. Начали с жестких линий, с красок слишком ярких, не сливающихся между собой, йотом перешли к мягкости, доходящей до неясности очертаний. Полного подражания природе, вполне верного снимка с нее, — что-бы там ни говорили и ни писали, — еще не было.
Закроем глаза на все, что было между самой примитивной и современной [5] манерой в живописи и сосредоточим на них все внимание.
Жесткость, ослепительные краски, резко проведенные линии — вот в чем состоит первая.
Мягкость, краски, настолько сплывающиеся между собой, что рисунок проигрывает в рельефности, какое-то избегание линий — вот вторая.
Теперь нужно было бы, так сказать, взять концом кисти слишком яркие краски древних картин и перенести их на безжизненные современные. Тогда было бы совершенство.
Есть еще род живописи, еще совершенно новый, состоящий в том, что пишут картины «пятнами». Но это ужасно, хотя таким образом и достигается некоторый эффект.
В картинах новых мастеров значение обстановки — обыденных предметов, как-то: мебели, дымов, церквей, недостаточно оценено. Пренебрегают точностью в передаче обстановки и таким образом производят какую-то сбивчивость линий; слишком злоупотребляют ретушевкой (тогда как можно было бы пользоваться ею, не возводя этого в обыкновение); таким образом фигуры выделяются не достаточно резко и кажутся такими-же мертвенными, как окружающие их предметы, которые сделаны не с достаточной точностью, и представляются как бы не вполне твердо стоящими и неподвижными. В таком случае, дитя мое, так как, по-видимому, ты столь хорошо понимаешь, что нужно для совершенства… Не беспокойтесь, я буду работать, и что еще лучше, добьюсь в этом успеха!
Я возвратилась страшно усталая, купив себе тридцать два английских тома, отчасти переводы, первоклассных немецких писателей.
«Как! И здесь уже библиотека!» — воскликнула тетя в ужасе.
Чем более я читаю, тем более я чувствую потребность читать, и чем более я учусь, тем более открывается передо мной ряд вещей, которые хотелось бы изучить. Я говорю это вовсе не из пустого подражания известному мудрецу древности. Я действительно испытываю то, что говорю.
И вот я в роли Фауста! Старинное немецкое бюро, перед которым я сижу, книги, тетради, свертки бумаги… Где-же Мефистофель? Где Маргарита? Увы! Мефистофель всегда со мной: мое безумное тщеславие, — вот мой дьявол, мой Мефистофель.
О, честолюбие, ничем не оправдываемое! Бесплодный порыв, бесплодное стремление к какой-то неизвестной цели!
Я ненавижу больше всего золотую середину. Мне нужна или жизнь… шумная, или абсолютное спокойствие.
Не знаю, отчего это зависит, но я чувствую, что совершенно не люблю А…, не только я не люблю его, но я больше и не думаю о нем, и все это кажется мне каким-то сном.
Но Рим привлекает меня; я чувствую, что там только и буду в состоянии работать. Рим, — шум и тишина, развлечения и тихие грезы, свет и тени… Позвольте… свет и тени… Это ясно: где свет, там и тени и… versaicev… Нет, но я смеюсь сама над собой, — серьезно!
И, право, есть чего — только пожелай!.. Я хочу ехать в Рим, это единственное место, подходящее к моим наклонностям, единственное место, которое я люблю за него самого.
Берлинский музей прекрасен и богат, но обязан ли он этим Германии? Нет — Греции, Египту, Риму! После созерцания всей этой древности, я села в карету с глубоким отвращением к нашим искусствам, нашей архитектуре, нашим модам.
Я думаю, что если бы другие, выходя из такого рода мест, проанализировали свои чувства, то оказалось бы, что все думают так же. Впрочем, к чему желать быть во всем похожей на других!
Я не люблю немцев за их сухость и материализм, но нужно отдать им справедливость: они очень вежливы, очень предупредительны, и что мне в них особенно нравится, так это их уважение к государям и их истории. Это зависит от того, что они еще не испорчены всеми прелестями республики.
Ничто не может сравниться с идеальной республикой. Но республика — как горностай: малейшее пятно убивает ее. А где вы найдете республику без единого пятна?
Нет, эта жизнь просто невозможна, это ужасная страна! Прекрасные дома, широкие улицы, но… но ничего для души и воображения. Самый маленький городишка Италии стоит Берлина.
Тетя спрашивает меня, сколько страниц я исписала. — «Страниц сто, я думаю», — говорит она.
Действительно, может показаться, что я все время пишу; но нет. Я думаю, мечтаю, читаю, потом напишу два слова, — и так целый день.
Удивительно, как хорошо я стала понимать благодетельные стороны республики, с тех пор, как причислила себя к бонапартистам.