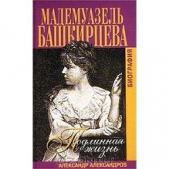Дневник Марии Башкирцевой

Дневник Марии Башкирцевой читать книгу онлайн
Мария Башкирцева (1860–1884) — художница и писательница. Ее картины выставлены в Третьяковской галерее, Русском музее, в некоторых крупных украинских музеях, а также в музеях Парижа, Ниццы и Амстердама. «Дневник», который вела Мария Башкирцева на французском языке, впервые увидел свет через три года после ее смерти, в 1887 г., сначала в Париже, а затем на родине; вскоре он был переведен почти на все европейские языки и везде встречен с большим интересом и сочувствием.
Этот уникальный по драматизму человеческий документ раскрывает сложную душу гениально одаренного юного существа, обреченного на раннюю гибель. Несмотря на неполные 24 года жизни, Башкирцева оставила после себя сотни рисунков, картин, акварелей, скульптур.
Издание 1900 года, приведено к современной орфографии.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Конечно, дедушка человек образованный, но старый, слепой и раздражающий со своим Трифоном и постоянными жалобами на обед.
У мамы много ума, но мало образования, никакого умения жить, отсутствие такта, да и ум ее огрубел и заплесневел от того, что она говорит только с прислугой, о моем здоровье, да и о собаках.
Тетя немного более образована, она даже импонирует тем, кто ее мало знает.
Понедельник, 3 июля. Amor [4] decrescit ubique crescere non possit.
«Любовь уменьшается, когда не может больше возрастать».
Поэтому-то, когда люди вполне счастливы, они начинают незаметно любить меньше и кончают тем, что отдаляются друг от друга.
Завтра я уезжаю. Не знаю, почему-то мне жаль покидать Ниццу.
Я отобрала ноты, которые увезу с собой, несколько книг: энциклопедию, один том Платона, Данте, Ариоста, Шекспира, затем массу романов Бульвера, Коллинза и Диккенса.
Я наговорила грубостей, тете и ушла на террасу. Я оставалась в саду до сумерек, которые так хороши на море — фоном служит бесконечность, и эта роскошная растительность, эти широколистные деревья и для контраста бамбуки и пальмы. Фонтан, грот с каплями воды, беспрерывно падающими с уступа на уступ, прежде чем попадут в бассейн; все окружающее, густые деревья придают этому уголку уютность и таинственность, располагающие к лени и мечтательности.
Почему вода всегда располагает к мечтательности?
Я оставалась в саду, глядя на вазу, в которой распускается великолепная розовая canna, представляя себе, как красивы в этом прелестном саду мое белое платье и зеленый венок.
Неужели у меня нет другой цели в жизни, как только одеваться с таким искусством, украшать себя зеленью и думать обо эффекте?
Откровенно говоря, я думаю, что, если бы прочли, что я пишу, меня нашли бы скучной. Я еще так молода! Я так мало знаю жизнь!
Я не могу говорить так авторитетно и беззастенчиво, как писатели, имеющие непомерную претензию знать людей, диктовать законы и предписывать правила.
Я выдвинула ящик моего стола. А! Вот чего мне особенно жаль!.. Моего журнала… Это половина меня самой!
Погода такая чудная!
Как хорошо: накануне моего отъезда чудесная, бледная луна освещает все красоты моего города!
Невольно чувствуешь себя грустной в такую ночь!
Я прошлась два раза по комнате, мне чего-то не доставало, хотя я не чувствовала себя несчастной, напротив. Я ничего не желаю, я всегда хотела бы чувствовать себя так спокойно и хорошо. Моя душа расширялась этим чувством тихого счастья, она, казалась, рвалась наружу; я села за рояль, и мои длинные бледные пальцы стали блуждать по клавишам. Но мне не доставало чего-то, быть может кого-то…
Я еду в Россию… Мне бы хотелось накануне дня, ожидаемого с таким нетерпением, лечь пораньше, чтобы сократить время.
Меня тянет в Рим. Рим — такой город, который не сразу поддается пониманию. Сначала я видела в Риме только Pincio и Corso. Я не понимала простой и полной воспоминаний красоты равнины, лишенной деревьев и домов. Одна волнообразная равнина, словно океан в бурю, усеянная тут и там стадами овец, которых стерегут пастухи, подобные тем, о которых говорит Вергилий.
Ведь только наше беспутное сословие претерпевает тысячи изменений, а люди простые, люди природы, не меняются и сходны во всех странах.
Рядом с этой огромной пустынной местностью, изборожденной водопроводами, прямые линии которых перерезывают горизонт, производя захватывающий эффект, видны прекраснейшие памятники как варварства? так и всемирной цивилизации. Зачем говорить варварства? Разве потому только, что мы, современные пигмеи, с нашей маленькой гордостью, считаем себя цивилизованнее, благодаря тому, что родились последними.
Никакое описание не может дать полного понятия об этой грациозной и великолепной стране, об этой стране солнца, красоты, ума, гения, искусства, об этой стране, так низко упавшей и лишенной возможности, подняться.
Оставить здесь мой дневник, вот истинное горе!
Этот бедный дневник, содержащий в себе все эти порывы к свету, — все эти порывы, к которым отнесутся с уважением, как к порывам гения, если конец будет увенчан успехом, и которые назовут тщеславным бредом заурядного существа, если я буду вечно коснеть.
Выйти замуж и иметь детей? Но это может сделать каждая прачка!
Но чего-же я хочу? О! вы отлично знаете. Я хочу славы!
Мне не даст ее этот дневник. Этот дневник будет напечатан только после моей смерти: в нем я слишком обнажена, чтобы показать его, пока я жива. К тому-же он будет ничем иным, как дополнением к замечательной жизни. Жизнь, исполненная славы! Это безумие — результат исторического чтения и слишком живого воображения.
Я не знаю в совершенстве ни одного языка. Моим родным языком я владею хорошо только для домашнего обихода. Я уехала из России десяти лет; я хорошо говорю по-итальянски и по-английски. Я думаю и пишу по-французски, а между тем, кажется, делаю еще грамматические ошибки. Часто мне приходится искать слов, и с величайшей досадой я нахожу у какого-нибудь знаменитого писателя мою мысль, выраженную легко и изящно!
Вот послушайте: «Путешествие, что бы там ни говорили, одно из печальнейших удовольствий жизни; если вы чувствуете себя хорошо в каком-нибудь чужом городе, это значит что вы начинаете создавать себе новое отечество».
Это говорит автор Коринны. А сколько раз, с пером в руках, я выходила из себя, не умея выразить того, что хотела, и кончала тем, что раздражалась восклицаниями в роде следующих: а ненавижу новые города; новые лица для меня пытка!
Все чувствуют одинаково; разница только в выражении; все люди созданы из одного материала, но как они отличаются чертами лица, ростом, цветом лица, характером!
Вот увидите, что на этих-же днях я прочту что-нибудь в этом роде, но высказанное умно, увлекательно и красиво.
Что я такое? Ничто. Чем я хочу быть? Всем.
Дадим отдых моему уму, утомленному этими порывами к бесконечному. Вернемся к А…
Бедный Пиетро! Моя будущая слава мешает мне думать о нем серьезно. Мне кажется, что она упрекает меня за те мысли, которые я ему посвящаю.
Я сознаю, что Пиетро только развлечение, музыка, чтобы заглушить вопли моей души… И все-таки я упрекаю себя за мысли о нем, раз он мне не нужен! Он даже не может быть первой ступенью той дивной лестницы, на верху которой находится удовлетворенное тщеславие.
Париж, 4 июля. Amor, ut laeryma, oculo oritur in pectus capit. Publius Syrus.
Среда, 5 июля. Вчера, в два часа я уехала из Ниццы с тетей и Амалией (моей горничной). Шоколада, у которого болят ноги, пришлют нам только через два дня.
Мама уже три дня оплакивает мое будущее отсутствие, поэтому я очень нежна и кротка с ней.
Любовь к мужу, к возлюбленному, к другу, к ребенку исчезает и возобновляется, ибо каждого из них можно иметь дважды.
Но мать только одна и мать единственное существо, которому можно довериться вполне, любовь которого бескорыстна, преданна и вечна. Я почувствовала это может быть в первый раз при прощании. И как мне кажется смешна любовь к Г…, Л… и А…! И как они все мне кажутся ничтожны!
Дедушка растрогался до слез. Впрочем, всегда есть что-то особенное в прощании старика; он благословил меня и дал мне образ Божией Матери.
Мама и Дина провожали нас на станцию.
По обыкновению я старалась казаться как можно веселее; но все-таки я была очень огорчена.
Мама не плакала, но я чувствовала, что она несчастна, и у меня явился целый ряд упреков самой себе за то, что я уезжаю и что часто я была жестока по отношению к ней. Но, думала я, глядя на нее из окна нашего вагона, я была жестока не от злости, а от горя и отчаяния; теперь же я уезжаю, чтобы изменить нашу жизнь.