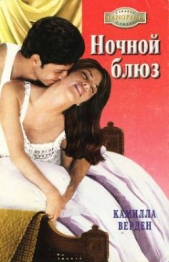Исповедь (СИ)

Исповедь (СИ) читать книгу онлайн
Более жестокую и несправедливую судьбу, чем та, которая была уготована Ларисе Гениуш, трудно себе и представить. За свою не очень продолжительную жизнь эта женщина изведала все: долгое мытарство на чужбине, нищенское существование на родинеу тюрьмы и лагеря, глухую стену непризнания и подозрительности уже в наше, послесталинское время. И за что? В чем была ее божеская и человеческая вина, лишившая ее общественного положения, соответствующего ее таланту, ее гражданской честности, ее человеческому достоинству, наконец?
Ныне я могу со всей определенностью сказать, что не было за ней решительно никакой вины.
Если, конечно, не считать виной ее неизбывную любовь к родной стороне и ее трудовому народу, его многовековой культуре, низведенной сталинизмом до уровня лагерного обслуживания, к древнему его языку, над которым далеко не сегодня нависла реальная угроза исчезновения. Но сегодня мы имеем возможность хотя бы говорить о том, побуждать общественность к действию, дабы не дать ему вовсе исчезнуть. А что могла молодая белорусская женщина, в канун большой войны очутившаяся на чужой земле, в узком кругу эмигрантов, земляков, студентов, таких же, как и она, страдальцев, изнывавших в тоске по утраченной родине? Естественно, что она попыталась писать, сочинять стихи на языке своих предков. Начались публикации в белорусских эмигрантских журналах, недюжинный ее талант был замечен, и, наверное, все в ее судьбе сложилось бы более-менее благополучно, если бы не война...
Мы теперь много и правильно говорим о последствиях прошлой войны в жизни нашего народа, о нашей героической борьбе с немецким фашизмом, на которую встал весь советский народ. Но много ли мы знаем о том, в каком положении оказались наши земляки, по разным причинам очутившиеся на той стороне фронта, в различных странах оккупированной Европы. По ряду причин большинство из них не принимало сталинского большевизма на их родине, но не могло принять оно и гитлеризм. Оказавшись между молотом и наковальней, эти люди были подвергнуты труднейшим испытаниям, некоторые из них этих испытаний не выдержали. После войны положение эмигрантов усугубилось еще и тем, что вина некоторых была распространена на всех, за некоторых ответили все. В первые же годы после победы они значительно пополнили подопустевшие за войну бесчисленные лагпункты знаменитого ГУЛАГа. Началось новое испытание новыми средствами, среди которых голод, холод, непосильные работы были, может быть, не самыми худшими. Худшим, несомненно, было лишение человеческой сущности, и в итоге полное расчеловечивание, физическое и моральное.
Лариса Гениуш выдержала все, пройдя все круги фашистско-сталинского ада. Настрадалась «под самую завязку», но ни в чем не уступила палачам. Что ей дало для этого силу, видно из ее воспоминаний — это все то, чем жив человекчто для каждого должно быть дороже жизни. Это любовь к родине, верность христианским истинам, высокое чувство человеческого достоинства. И еще для Ларисы Гениуш многое значила ее поэзия. В отличие от порабощенной, полуголодной, задавленной плоти ее дух свободно витал во времени и пространстве, будучи неподвластным ни фашистским гауляйтерам, ни сталинскому наркому Цанаве, ни всей их охранительно-лагерной своре. Стихи в лагерях она сочиняла украдкой, выучивала их наизусть, делясь только с самыми близкими. Иногда, впрочем, их передавали другим — даже в соседние мужские лагеря, где изнемогавшие узники нуждались в «духовных витаминах» не меньше, нем в хлебе насущном. Надежд публиковаться даже в отдаленном будущем решительно никаких не предвиделось, да и стихи эти не предназначались для печати. Они были криком души, проклятием и молитвой.
Последние годы своей трудной жизни Лариса Антоновна провела в низкой старой избушке под высокими деревьями в Зельвеу существовала на содержании мужа. Добрейший и интеллигентнейший доктор Гениуш, выпускник Карлова университета в Праге, до самой кончины работал дерматологом в районной больнице. Лариса Антоновна растила цветы и писала стихи, которые по-прежнему нигде не печатались. Жили бедно, пенсии им не полагалось, так как Гениуши числились людьми без гражданства. Зато каждый их шаг находился под неусыпным присмотром штатных и вольнонаемных стукачей, районного актива и литературоведов в штатском. Всякие личные контакты с внешним миром решительно пресекались, переписка перлюстрировалась. Воспоминания свои Лариса Антоновна писала тайком, тщательно хоронясь от стороннего взгляда. Хуже было с перепечаткой — стук машинки невозможно было утаить от соседей. Написанное и перепечатанное по частям передавала в разные руки с надеждой, что что-нибудь уцелеет, сохранится для будущего.
И вот теперь «Исповедь» публикуется.
Из этих созданных человеческим умом и страстью страниц читатель узнает об еще одной трудной жизни, проследит еще один путь в литературу и к человеческому достоинству. Что касается Ларисы Гениуш, то у нее эти два пути слились в один, по- существу, это был путь на Голгофу. Все пережитое на этом пути способствовало кристаллизации поэтического дара Ларисы Гениуш, к которому мы приобщаемся только теперь. Белорусские литературные журналы печатают большие подборки ее стихов, сборники их выходят в наших издательствах. И мы вынуждены констатировать, что талант такой пронзительной силы едва не прошел мимо благосклонного внимания довременного читателя. Хотя разве он первый? Литературы всех наших народов открывают ныне новые произведения некогда известных авторов, а также личности самих авторов — погибших в лагерях, расстрелянных в тюрьмах, казалось, навсегда изъятых из культурного обихода народов. Но вот они воскресают, хотя и с опозданием, доходят до человеческого сознания. И среди них волнующая «Исповедь» замечательной белорусской поэтессы Ларисы Гениуш.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Нас на 4-й док больше не повели.
Началась переписка. Тоненькие записочки носили девчата, ходившие на ближние объекты. Носить записки было небезопасно, жить без них было совершенно невозможно, и каждая из нас это понимала. Терпели девчата бур, и голод, и горе, но сочувствовали друг другу и помогали. Мои записки носила обычно Женя Врублевская из Варшавы. Была это молодая, красивая девушка, русская. Мне она не нравилась, она была недружелюбна и все твердила: чтобы выжить в лагере, каждый должен видеть только себя и идти напролом, не обращая внимания на остальных заключенных. Записки от Романчука были страстные, интересные. Жажда борьбы и свободы бурлила в них, к этому примешивалось, правда, сдерживаемое в словах, но ощутимое между строк горячее и глубокое,чувство ко мне. Я этому не удивлялась, таковы были обстоятельства... Хлопцы радовались нашему вниманию, особенно же стихам. Они, к сожалению, пропали, почти забылись, я только с пятого на десятое помню их. А были, наверное, как огонь, потому что люди жили ими, и мне нужно было постоянно посылать все новые, ведь так и писали: «присылайте скорее глюкозу!»... Если бы не думали, не боролись — наверное бы умерли. Бороться — значило жить! Первый ОЛП, тот, где сидел Романчук, был напротив нашего женского лагеря, ограда и вышки его всегда были перед нашими глазами.
И вот однажды под осень перевели нас от них подальше, за лесок. Там была совсем еще дикая тундра и нам предстояла выторфовка под здания и дороги Инты. В тундре почти всюду болото, и чтобы добраться до твердого грунта, нужно снимать напластование мха. Пласт этот был иногда в полметра толщиной, а иногда и в полтора. Зимой мох смерзался с серой глиной, и мы его долбили кирками, топорами й проклятыми неподъемными кувалдами и на носилках волокли, сгибаясь, в огромные кучи. Только на выторфованном грунте прокладывались дороги, строились шахты, возносились стройки.
С нашим переходом в другой лагерь прервалась вся моя переписка. Было грустно. Я близко сдружилась с украинками, особенно с милой Люцинкой Волк. Мы вместе ели и спали, были в одной бригаде. Люцинка очаровательная женщина, срок у нее был на удивление небольшой — всего пять лет. Сидела она за то, что муж ее участвовал в бандеровском подполье. Она только вышла за него замуж, и он пошел сражаться И вот Люцина беременна! Тут за нее и взялись — где муж? Люцину посадили. Какой-то чудак из их деревни мужественно объявил МГБ, что это он отец ребенка, но ему не поверили. Где-то дома у старых теток воспитывалась ее доченька Катруся. На следствии ей показали снимки убитого мужа, но она все жила им, любовью к нему и какой-то несгибаемой верой в то, что он жив. Из инвалидов дружила с нами Катя Гринкевич из Минска и немного Мария Зарецкая. Были еще белоруски, но в основном личности слабые, неинтересные, кроме Тайсы, муж которой был сапожником, а она сама, кажется, учительницей. Романчука она знала хорошо.
Однажды поздней осенью я наконец получила записку. У меня все внутри оборвалось. Записка на этот раз была личная, только для меня, не затрагивалось там «хозяйство» (Беларусь), ни наши дети (Друзья). Писал Романчук, что все его предали, продали, у него горит земля под ногами и что веру он сберег только в меня одну. Я заплакала от беспомощности нашей, от горя. Припомнилось, как похожие слова говорил мне, умирая, дядька Захарка, возлагая на мои женские плечи груз непомерных обязанностей. Шло время, не было больше никаких действий, никаких записок. Хотелось верить, что все как-то уладилось. Вдруг вызвали меня какие-то дамы-начальницы. Причина разговора, будто бы, мои вещи, золотой обручальный перстень, золотой крестик на такой же цепочке, который прислал мне из Англии брат Алеша, единственный выживший в войну изо всей семьи. Крестик был чудесной работы. Были и обычные ручные часы. Все это забрали у меня при обыске и так и не отдали. Вот они почему-то спрашивали меня об этих вещах. Я знала, что дело в чем-то другом. Начали выпытывать, как относятся ко мне русские в лагере и что я о них думаю. Я ответила, что, как бы они ко мне ни относились и что бы я о них ни думала, я все равно этого им не скажу. Спрашивали, что я делаю. Я сказала, что изучаю психологию наций в лагере: кто чего стоит... Спросили: знаю ли я о великих стройках в Союзе? Я сказала, что великие стройки не имеют значения, пока люди живут, как скотина... Как долго думаю я сидеть в лагере? «А это от меня зависит, до тех пор, когда мне захочется прервать эту нить жизни...» — «А на что вы надеетесь?» — «На северное сияние», — говорю, просто чтобы что-то ответить. «Ну и надейтесь на свое «Северное сияние», — многозначительно сказала одна из них, посмотрев на меня в упор... Тут я и заледенела, почему-то вспомнился Романчук... От Люции Антоновны я узнала, что одна из женщин, в коротком черном тулупчике, похожая на еврейку, по фамилии, кажется, Горбунова или Горбатова, будто бы из Минска. О моих вещах я уже и не думала.
Время летело, наступила суровая зима, меня оставили в зоне вместе с другими организовывать самодеятельность. В инициативную группу вошли: Тамара Вераксо — киевская балерина, Кузнецова — жена какого-то комика из Малого театра в Москве, Лариса Донатти — артистка из Горького, молодая и очень красивая, ну и я. Мы вместе все обдумывали, ставили специальные концерты, на мне был конферанс и тексты песен. Еще я помогала рисовать декорации, одевать в пачки из марли балерин и т. п.
Однажды зимой перед таким концертом позвали меня украинки в другой барак. Люцинка с девчатами наварили, где-то в кочегарке, пшенной каши. Спрятавшись, уплетали мы ту постную кашу и радовались своему товариществу, когда вошла дневальная от начальства и стукач Зинка-сучка и позвала меня на вахту. Была она злая, как зверь, и буркнула что-то насчет бунтовщиков в лагере. В чем, думаю, тут загвоздка? На вахте сидели какие-то незнакомые начальники и наш лагерный опер. Об этом опере говорили неплохо. Одна моя знакомая была у него когда-то дневальной, и сказала, что он меня ценит и вообще людей жалеет. Но он вышел и вместо него пришел кто-то другой. Меня всегда вызывали три человека, почему? Не знаю. За столиком сидел военный, невысокий, седоватый человек. После ознакомления, как обычно, с персоналиями он посмотрел йа меня проницательно и сказал: «Говорите!» Я молчу, откуда я могу знать, чего этот нехристь хочет? «Говорите или не говорите, смертного наказания вам не избежать!» Подчеркивает «не говорите» и смотрит на меня в упор. Откуда я знаю этого человека? Откуда? Что за нелепость? Я его я знаю по своим снам! Это он меня вытащил из ямы во сне, когда я шла пустой тундрой от одной церкви к другой! Я провалилась в яму, откуда мне было не вылезти, и он, этот самый седоватый человек с блестящими глазами, вытащил меня за руку... «Так что же-вы молчите?» Говорю: «Я не знаю, в чем дело, спрашивайте». — «Кто такой Павлов, кто Рудковский, говорите, а то скажете в тюрьме в Инте, заставим!» — «Пропади ты пропадом, — думаю, — выродок несчастный». Отвечаю: «Не знаю я таких людей!» — «Говорите, смертного наказания вам не избежать», — повторяет. Ах так, ну, знай, кат: «Отобрали вы у меня мою Отчизну, моего сына и мужа, так жизнь здесь ничего не стоит, чего же ждете? Без Божьей воли волос не упадет с моей головы, и я вас не боюсь!» Кричу не своим голосом, и страха — никакого. «Так Павлов не по одному делу с вами?» — «Нет, — говорю, — такого не знаю!» — «Тогда идите, остальное скажете в Инте». И все! Я буквально выкатилась оттуда. Начинался концерт, и мне нужно было одевать балерин. Иду на сцену, колени подгибаются, но молчу. Эстонка Эльвира несет мне папиросу, хоть все знают, что я сроду не курю. Неужели я так плохо выгляжу? Меня начинает трясти, я убегаю куда-то в угол и реву, как корова. Стыдно, но так было. В лагере уже все знают, и откуда? Что ж, меня заберут, но у меня есть одна драгоценная вещь — снимок, на котором муж, сын и я. Прислал его в одном своем страшном письме отец мужа. Его нужно сберечь, мне уже не выйти... Бедный, дорогой сын, какое несчастье... Назавтра понесли милые украинки снимок, чтобы передать его белорусам в мужские лагеря. Я ждала, когда меня возьмут на те муки в Инту. Но все не брали. Я исхудала, молчала.