Станиславский
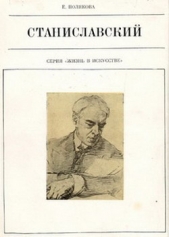
Станиславский читать книгу онлайн
Автор книги подробно прослеживает жизнь великого режиссера и актера, оказавшего огромное воздействие на развитие мирового театра. Станиславский предстает здесь продолжателем традиций реалистического театра и новатором, чья жизнь в искусстве во многом определила художественные свершения XX пека. Его спектакли, сценические образы, все его творческие открытия воссоздаются в тесной связи с общественной и художественной жизнью России, с поисками нового, революционного искусства в послеоктябрьские годы. В книге широко использованы архивные материалы, переписка, дневники, воспоминания самого Станиславского и его современников.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
В том же начале 1896 года, когда репетируется «Отелло» в Охотничьем клубе, Станиславского приглашает для постановки в профессиональном театре его прежний кумир — Михаил Валентинович Лентовский. На сцене большого Солодовниковского театра, арендованного Лентовским, режиссер ставит с актерами-профессионалами пьесу Герхарта Гауптмана «Ганнеле». Драматург сохраняет в этой пьесе ту беспощадную реальность в изображении современного быта, которой он прославился: в грязной богадельне со сводчатым потолком, с глиняными кружками на деревянном столе, с тряпьем, раскиданным по углам, собираются в рождественскую ночь нищие, шлюхи, старики, у которых нет иного дома. В то же время эта реальность, сгущенная уже до фантасмагории, расплывается, колеблется в видениях больной девочки Ганнеле, которой грезятся белые ангелы и входящий в богадельню Христос. Шлюха Грета живет в одном мире с Христом, рядом с тряпьем появляется прозрачный стеклянный гроб, в котором в сказочном наряде лежит умершая девочка. Это и увлекает режиссера — не сказка сама по себе, не реальность сама по себе, а их зыбкое сплетение, создающее новую, преображенную реальность, словно призывающую в рождественскую ночь: оглянитесь, люди, поймите, что жизнь ваша оправдана, если вы творите добро, если сердца ваши открыты другим, вспомните о нищих, замерзающих в подвалах, о голодных детях, о бездомных. Тональность грустных святочных сказок — «Девочки со спичками» Андерсена, «Мальчика у Христа на елке» Достоевского — впервые воплощается на сцене. Как всегда, деловито и подробно рисует Станиславский в своих записных книжках обстановку богадельни, фигуры ее обитателей, больную, лежащую в бедной постели (рисует многократно — ему важна реальность поз, жестов), тщательно прорисовывает перья в белых крыльях ангелов, увлеченно изображает устройство черных крыльев ангела смерти. Он ищет не только необычное живописное решение, но необычное звучание сказки: четкая фразировка, столь необходимая пьесам Островского, сменяется шепотом, вздохами, словами шелестящими, стонущими, песенно-ликующими. Рецензенты пишут о «неслыханной силы впечатлении» от спектакля; и все, видевшие его, навсегда запомнили, как реальные фигуры бедняков покачивались за легким занавесом-дымкой, становились бестелесными, оставаясь в то же время реальными, как простирались над ребенком гигантские черные крылья ангела смерти и как светился стеклянный гроб, напоминая строки сказки: «И в хрустальном гробе том спит царевна вечным сном…»
По окончании премьеры Лентовский дарит Станиславскому заветную, драгоценнейшую книгу. Это — первое издание «Ревизора». На первой его странице автограф: «Моему доброму и бесценному Михаилу Семеновичу Щепкину от Гоголя». Щепкин подарил книгу-символ молодому Лентовскому; старый Лентовский передает ее тому, кто, как он думает, один достоин такого подарка, — Станиславскому. Двенадцать раз идет «Ганнеле» в Солодовниковском театре на Большой Дмитровке, двенадцать раз переполнен зал, и даже статисты профессионального театра — ко всему привычные, равнодушные, мечтающие лишь о вечернем расчете — превращаются в нищих и пьянчужек захолустной немецкой богадельни, плачут настоящими слезами над умирающей Ганнеле.
Со времен Лешего, сыгранного в домашнем детском утреннике, Станиславский не обращался к сказке; а сейчас, провозглашая реальность единственной формой театра, играя Паратова, Дульчина, Имшина, ставя «Отелло» как историческую драму, — он увлеченно открывает возможности преображения этой реальности; великий мастер воспроизведения житейской обыденности на сцене, он смещает эту обыденность в «Ганнеле».
Этот, казалось бы, случайный спектакль, столь не соответствующий «мейнингенству» Станиславского, органичен, необходим ему так же, как «Отелло». Закономерно, что именно в это время его так привлекает случайно увиденная в Париже «Самаритянка» Ростана с Сарой Бернар в главной роли. Сара Бернар никогда не была любимой актрисой Станиславского; недавно он с резкостью, совершенно ему не свойственной, написал о «Принцессе Грёзе» того же Ростана: «Много видел на свете, но такой мерзости видеть не приходилось». «Самаритянка», написанная по евангельским мотивам, кажется ему произведением «нового и чудного жанра», «чудными» называет он и стихи Ростана. Только что он побывал в монмартрских «Le cabaret du néant» («Кабаре небытия») и «Cabaret du diable» («Кабаре дьявола»), где официанты, одетые гробовщиками, сажают гостей за столы-гробы, освещенные траурными свечами, и подают им пиво с любезными репликами: «Отравляйтесь, это плевки чахоточных…» Щекочущая нервы, кощунственно-пародийная игра, а рядом с нею — спектакль, взывающий к милосердию и любви.
«…Я плакал все три акта и вышел из театра совершенно обновленным, — пишет Константин Сергеевич Ольге Тимофеевне Перевощиковой, заодно совсем по-толстовски нападая на лицемерную обрядность привычного богослужения. — Скажите Софье Александровне (богомольная московская знакомая. — Е. П.), что я очень жалею, что ей не пришлось помолиться в театре; жаль, что она не могла убедиться, что мистерия, исполненная мало-мальски талантливыми людьми, имеет гораздо более прав на сочувствие и существование, чем бессмысленное ломание и хриплые орания пьяных и лохматых дьяконов и выживших из ума от старости попов».
Именно в поисках великой нравственной темы, в мечтаниях о театре, который сможет заменить религию, Станиславский обращается к сказке о бедной девочке Ганнеле, попадающей в рай, а затем к притче о человеке, который, позарившись на золото, убил странствующего торговца. Уважаем, богат бургомистр эльзасского местечка, и дочь свою достойно выдает замуж, но в свадебной музыке все чудится ему звук колокольчика — вот приблизится к дому упряжка странствующего торговца и войдет в дом сам этот торговец, польский еврей, когда-то убитый бургомистром.
Бургомистра-убийцу из драмы Эркмана-Шатриана «Польский еврей» играет Станиславский, он же ставит пьесу. Конечно, снова просит брата, живущего в Германии, прислать виды Эльзаса, зарисовки костюмов и обстановки. Переносит все эти реалии в свой режиссерский экземпляр, но увлекается уже не столько воплощением доподлинного Эльзаса, сколько созданием фантасмагории, бреда бургомистра, который видит себя у позорного столба, в цепях, у виселицы. Звон колокольчика все приближается, усиливается, заглушает звуки свадебных танцев, тьма сгущается, тени скрывают реальные очертания комнаты, темным силуэтом мечется бургомистр — словно попал уже в ад. В финале солнечные лучи озаряют эльзасскую комнату, где на полу лежит мертвый бургомистр.
Людвиг Барнай, посмотрев спектакль, пишет Станиславскому восторженное письмо, дамы падают в обморок в зрительном зале Охотничьего клуба. А режиссер уже готовит еще одну пьесу Гауптмана — сказку, где философствует леший и по-лягушечьи квакает водяной, где старая колдунья варит волшебное зелье в горной хижине, а ее златокудрая внучка отбивается от пчел (вырезанные из бархата, они прикреплены на проволочках к пальцам актрисы, точь-в-точь как когда-то у балерины Гейтен в «Танце с пчелами»). Станиславский увлечен и возможностью осуществления всех этих чудес и образом главного героя, которого он хочет сыграть. Мастер Генрих мечтает о создании гигантского колокола, при звоне которого исчезнет все земное зло.
Он долго ищет художника для сказки «Потонувший колокол». Ему рекомендуют познакомиться с Виктором Андреевичем Симовым — он пишет жанровые картины, портреты в традициях передвижничества, но увлекается и работой в Частной опере Мамонтова.
Воспоминания художника о первой встрече со Станиславским хочется процитировать целиком — так достоверно рисуют они обстоятельства знакомства, облик Константина Сергеевича, встречи у Красных ворот, где началась их работа над «Потонувшим колоколом»:
«На Садовой, за обычной тогда решеткой по тротуару, через стволы привольно разросшихся лиственных деревьев (а над их вершинами, как легкие стрелы, высились два четких силуэта изящных елей), белыми пятнами проглядывало внушительное здание.
Двухэтажное, с колоннами, несколько тяжеловатое — типичный особняк с флигелем; между ними крытая галерея, соединяющая верхние этажи, образует как бы вторые ворота, во внутренний двор.
Константин Сергеевич со своей женой, Марией Петровной Лилиной, занимали весь низ главного дома.
Глядя на массивный фасад, который не отличался никакими особенностями, я не ожидал и от интерьера ничего другого, кроме солидной роскоши.
Но стоило только переступить порог комнаты, куда меня пригласили, — нахлынули иные впечатления.
Невысокие простые потолки. В одном из углов довольно обширного помещения какой-то портик или, пожалуй, маленькая квадратная часовня с усеченным выступом и небольшой аркой-входом из грузного мореного дуба. Готический стиль. Освещалась она узкими стрельчатыми окнами (целлулоидные наклейки — удачная имитация), причем на цветных стеклах — прозрачный ряд рыцарских фигур. Под стать оригинальный сундук с металлическими петлями и столик, похожий на аналой. На нем темнел фолиант в кожаном переплете, где чуть поблескивали старинные застежки.
Все вокруг серьезно, увесисто, даже величаво. Высокие резные спинки глубоких покойных кресел, обитых гобеленами блекло-сероватого цвета. Еще какое-то сиденье, перед ним — круглый стол; на полу мягкий ковер в тон окружающему. Висели вышитые знамена, укрепленные между кресел, в простенках окон. Копья — чуть не музейные протазаны на длинных древках. Два стеклянных шкафа такого же готического стиля; сквозь расписные дверцы видны в тисненых переплетах книги. Отовсюду веяло налетом средневековья.
Но, во всяком случае, это убранство, эта тишина властно отгораживали от шума уличной московской сутолоки. Невольно казалось, что здесь в дальнейшем меня должно встретить нечто противоположное будням и прозе. Продолжая осматриваться, я увидел хозяина, вышедшего из боковой двери с левой стороны. Мне как художнику вдруг почему-то представилось, что владельцу таких хором не худо бы накинуть длинную черную мантию или показать его охотником в кожаной куртке и ботфортах, обыкновенный же домашний костюм и, главное, брюки навыпуск мешали целостному впечатлению.
Помню даже такую мелочь: подали на подносе вместительный чайник под шерстяной вязаной покрышкой коричневого цвета, рядом виднелась сахарница и ваза с вареньем (новое смешение разнохарактерных восприятий). Опять я обратил внимание на большую руку, которая уверенно хозяйничала, плавно двигаясь от чайного прибора к салфеточкам.
Завязался оживленный разговор: театр вообще, его роль, нудная казенщина, репертуар (в частности, Гауптман) и постановка выбранной пьесы. Взгляды на искусство — смелые, пожелания — широкие, даже рискованные. Станиславскому, завзятому сказочнику, как будто тесно среди быта, среди устойчивого обихода, который планомерно движется круглые сутки, подобно стрелке, по циферблату необходимости и привычки.
За скачками его фантазии не угонишься. Он перепрыгивает через технические возможности, забывая или просто не думая, насколько это осуществимо. При его поэтических объяснениях забыл я о средневековом окружении и перенесся куда-то в горы, в ущелье, а режиссер толкает меня еще глубже, на самое дно, полное мрака, жути, таинственности…
Недопитый чай простыл, салфеточка соскользнула с колен, и вдруг, после падения Генриха в пропасть, я внезапно разглядел блюдечко, остатки варенья. Что такое? Почему варенье? Где я?.. Нагнулся, поднял салфеточку, предусмотрительный же хозяин, превратясь из Генриха в Алексеева, предлагает угощение…»
























