Станиславский
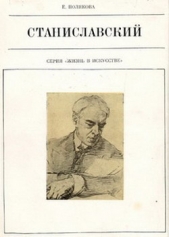
Станиславский читать книгу онлайн
Автор книги подробно прослеживает жизнь великого режиссера и актера, оказавшего огромное воздействие на развитие мирового театра. Станиславский предстает здесь продолжателем традиций реалистического театра и новатором, чья жизнь в искусстве во многом определила художественные свершения XX пека. Его спектакли, сценические образы, все его творческие открытия воссоздаются в тесной связи с общественной и художественной жизнью России, с поисками нового, революционного искусства в послеоктябрьские годы. В книге широко использованы архивные материалы, переписка, дневники, воспоминания самого Станиславского и его современников.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Эта доверчивость, ясность, нежная влюбленность в жену-патрицианку трогает и увлекает зрителей; но в третьем акте наступает неизбежный перелом, и Отелло неизбежно должен стать ревнивцем и убийцей, впоследствии трагически прозревшим, ужаснувшимся. Станиславский ищет краски для этого «темного» образа. В режиссерском экземпляре он отмечает, что во время диалога с Дездемоной Отелло «злобно и недоверчиво» качает головой, «сдерживает себя, чтобы не кинуться и сразу не растерзать ее». После ухода Кассио мавр «как тигр» выскакивает из своей засады, «как сумасшедший» спрыгивает с тахты.
Станиславский может играть доброго человека и трагедию обманутого добра, может найти характеры Обновленского или Ашметьева, совершенно с собственным характером несхожие; но он не может играть ревнивца, убивающего женщину, «дикаря», «тигра». Он совершает действия, предписанные ему автором, и комментирует их, не веря в них. Поэтому последние акты так сильно сокращены, но почти не прокомментированы Станиславским-режиссером. Он находит гениальные детали для изображения повседневности жизни Венеции, ночного заседания во Дворце дожей, поведения Отелло, который узнал об измене жены — и солнце почернело для него, но пришел какой-то турок с бумагой, адресованной губернатору, и Отелло «успокоился, утерся, молча взял перо и стал подписывать подаваемые ему Яго бумаги». А комментарии к последним сценам Отелло — банальны, тянут к прежним увлечениям, к оперным эффектам: «как тигр»…
Роль Акосты набирает силы к последнему акту, роль Отелло, так увлекательно и обещающе начатая Станиславским, идет на спад к финалу.
Не стонет, не замирает зрительный зал, когда появляется Отелло в спальне Дездемоны, когда, прозревший, убивает он себя. Спокойно расходясь после спектакля, зрители толкуют о том, что господин Станиславский — превосходный режиссер и актер, но никак не трагик.
Между тем для трагедийного спектакля грядущего, двадцатого века эти постановки будут иметь большее значение, чем сами спектакли Сальвини. Там спектакль определяет один гениальный актер; здесь исполнение актера определяется, направляется общим замыслом спектакля. Здесь пьеса классика, для воплощения которой на театре давным-давно существует целый ряд проверенных приемов, возвращается в реальность, минуя все штампы, а заодно даже и традиции.
Поэтому, когда французский критик Люсьен Бенар, восхищаясь игрой Станиславского в «Самоуправцах» и общим решением «Отелло» («пьеса поставлена замечательным образом, с совершенством, превосходящим все, что я когда-либо видел во Франции или в Германии»), все же любезно и тактично упрекает исполнителя заглавной роли:
«Несмотря на то, что Вы хорошо поняли душу Отелло, Вы не играли его в шекспировских традициях… Я не сомневаюсь, что если бы Вы поработали с Ирвингом или Сальвини, Вы бы создали прекрасного Отелло», — Станиславский отвечает критику письмом очень пространным и гораздо более категоричным по тону.
Он поспешно соглашается с тем, что спектакль неудачен (об этом как раз Бенар вовсе не говорил) и что он сам «провалил» роль Отелло (об этом критик тоже не говорил); он спорит с одним, с главным для себя — с пониманием «традиций Шекспира» и с самим понятием «традиция».
Слово «традиция» для него сейчас — только ругательство, традиция равна бездарности. Причем к традиции театральной — скажем, к Муне-Сюлли, играющему Шекспира традиционно, то есть для Станиславского бездарно, — он приравнивает и совсем уж сторонних его теме комментаторов Шекспира, историков литературы, объявляя, что «самые большие враги Шекспира — это Гервинусы и другие ученые критики… Не создайся целой громадной научной библиотеки о шекспировских героях и пьесах, все бы смотрели на них проще и отлично бы понимали их, так как Шекспир — это сама жизнь, он прост и потому всякому понятен».
От Шекспира автор письма переходит к Мольеру; ему важен единый принцип подхода к классике — это принцип соотношения с жизнью, а не подражание актерам предшествующего поколения. Актер, играющий Мольера, для него значителен только тогда, когда он отходит от традиции, когда он воплощает реальный характер героя. И Коклен-старший, и Коклен-младший, и Лелуар, и Фебвр — прославленные французские исполнители Мольера — не существуют для москвича; он считает, что немцы (мейнингенцы) лучше играют Мольера, нежели французы, он с благодарностью вспоминает Ленского — Тартюфа и кончает письмо призывом: «Отрешитесь же поскорее от традиций и рутины, и мы последуем вашему примеру. Это будет мне на руку, потому что я веду отчаянную борьбу с рутиной у нас, в нашей скромной Москве. Поверьте мне, задача нашего поколения — изгнать из искусства устарелые традиции и рутину, дать побольше простора фантазии и творчеству. Только этим мы спасем искусство. Вот почему мне было больно услышать от Вас защиту того, что я признаю пагубой живого искусства, вот почему теперь я так много написал».
Станиславский никогда не писал манифестов-деклараций, но это письмо представляет собой именно манифест его принципов, его метода девяностых годов. Цель определена здесь прямолинейно и категорично. Самому режиссеру она кажется не единственно возможной, но единственно плодотворной: это воплощение жизни на сцене в исторической реальности, в которой происходит действие пьесы. Каждый образ он воспринимает и решает как образ реального человека, действующего в точных житейских обстоятельствах. Он воинствующе объявляет жизнь в форме правдоподобия, реального быта — единственно истинной формой искусства, он ненавидит в театре театр и не видит надобности ни в каком посреднике между реальностью и ее сценическим воплощением.
Эта позиция плодотворна, когда она взрывает рутину старого театра, и эта позиция ограниченна, когда она абсолютизируется и объявляется единственно верной.
Люсьен Бенар точно замечает основное противоречие в решении образа Отелло Станиславским: «Двадцать раз по ходу пьесы Ваши очень интересные находки в роли Отелло меня порадовали, и все-таки я был огорчен, видя нервический, слишком нынешний, слишком „внетрадиционный“ облик Вашего персонажа». «Слишком нынешним», «нервическим» был весь образ, созданный Станиславским. Он гениально воскресил повседневность жизни старой Венеции и сделал ее достоянием сцены, по одновременно утерял огромный масштаб жизни Ренессанса — «эпохи, которая нуждалась в титанах и которая породила титанов». Его Отелло был добр, умен, психологически тонок, но в нем не было мощи, масштаба, титанизма человека, живущего в титаническую эпоху. «Шекспировский текст остался где-то на втором плане» не только в самом начале работы — он остался на втором плане в спектакле, не слился с пластически-живописной картиной, созданной Станиславским. Жизнь времен Шекспира воплощалась на сцене, но стилистика самого Шекспира, особенности его образов далеко не всегда воплощались Станиславским.
Работа над спектаклями «Уриэль Акоста» и «Отелло» будет в его жизни итогом долгого пути и началом еще более долгого пути к постижению трагедии. Эти спектакли-эксперименты одновременно докажут великую силу «образцов из жизни» на сцене и недостаточность «образцов из жизни» на сцене.
Эту недостаточность, ограниченность бытового реализма начинает ощущать и сам Станиславский. Уже в спектаклях, следующих за «Отелло», он не только продолжает принципы, так подробно разработанные в постановках Гуцкова и Шекспира, но ищет иных путей.
В начале 1897 года он ставит комедию Шекспира «Много шума из ничего», в конце 1897 года — комедию Шекспира «Двенадцатая ночь». Ставит, кажется, совершенно так же, воплощая бытовые формы прошедшей жизни. Замысел постановки «Много шума из ничего» возник у режиссера в Турине, в затейливом замке, где в залах, переходах, в башнях, в часовне так удобно развивать сценическое действие. Причем показательно, что замок этот, построенный в девятнадцатом веке, как копия-стилизация подлинного старинного замка, вполне удовлетворил Станиславского: ему ведь важна не подлинность, старина сама по себе — ему важно ощущение подлинности прошедшего, которое на этот раз пробудил туринский замок. И снова пишут рецензенты о том, что на сцене «было не представление, а сама жизнь», что «иллюзию жизни» дал Станиславский и в «Двенадцатой ночи». Действительно, сохранившиеся эскизы художника Наврозова и фотографии спектаклей верны Англии шекспировских времен: перспектива городской улочки со старинными домами, вывески харчевен и трактиров, часовня с резной деревянной решеткой, где готов аналой для венчания влюбленных пар. Но для общего решения комедий, для всего актерского ансамбля, для самого себя — исполнителя ролей Бенедикта и Мальволио — Станиславский нашел ту гармонию, которой так недоставало его прочтению шекспировской трагедии. «Сама жизнь» представала здесь в радостном, комедийном аспекте: искрометен был диалог смуглого, белозубого красавца Бенедикта — Станиславского и лукавой Беатриче — Лилиной, прелестна была огромная пауза в конце второго акта, когда Бенедикт случайно узнает, что Беатриче в него влюблена. В этой роли никто не упрекал Станиславского в «современности» облика, — его герой принадлежал шекспировскому Возрождению, лихим дуэлям, романам, которые начинаются в монастыре или в часовне; руки его сильны и ловки — этот дуэлянт готов защищать свою любовь, свою честь, уютно-прихотливый замок, в котором течет жизнь истинно шекспировской комедии.
























