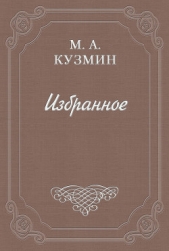Михаил Кузмин
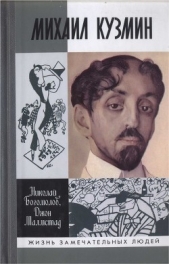
Михаил Кузмин читать книгу онлайн
Михаил Алексеевич Кузмин (1872–1936) — поэт Серебряного века, прозаик, переводчик, композитор. До сих пор о его жизни и творчестве существует множество легенд, и самая главная из них — мнение о нем как приверженце «прекрасной ясности», проповеднике «привольной легкости бездумного житья», авторе фривольных стилизованных стихов и повестей. Но при внимательном прочтении эта легкость оборачивается глубоким трагизмом, мучительные переживания завершаются фарсом, низкий и даже «грязный» быт определяет судьбу — и понять, как это происходит, необыкновенно трудно. Как практически все русские интеллигенты, Кузмин приветствовал революцию, но в дальнейшем нежелание и неумение приспосабливаться привело его почти к полной изоляции в литературной жизни конца двадцатых и всех тридцатых годов XX века, но он не допускал даже мысли об эмиграции. О жизни, творчестве, трагической судьбе поэта рассказывают авторы, с научной скрупулезностью исследуя его творческое наследие, значительность которого бесспорна, и с большим человеческим тактом повествуя о частной жизни сложного, противоречивого человека.
знак информационной продукции 16+
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
В своей любви к культурам прошлого, к „далеким родинам“ Кузмин — не археолог, не реконструктор. Чутьем филолога схватывая дух эпохи, он далек от мелочного историзма. Вряд ли „Алекс<андрийские> песни“ „могут быть сочтены переводом из какого-нибудь греческого поэта II века до P. X.“, как говорил В. Я. Брюсов. Изящество, остроумие, блеск эпиграмм Каллимаха, очаровательная и нежная фривольность и веселость Асклепиада, общий легкий и виртуозный тон александрийской эпиграмматической поэзии, порою близкий Кузмину, очень далек как раз „Алекс<андрийским> песням“, их сложному миру страсти, мудрости и тайны веселой и покорной обреченности. Также далеки „Ал<ександрийские> песни“ и от довольно внешне-любовной элегии, и от прямого, простого чувства Теокритовых идиллий. Все вышеуказанные алекс<андрийские> поэты II века в своих мифологических реминисценциях — чистые эллины и далеки от синкретизма Кузмина. Нечего и говорить о том, что стихотворение об Антиное скорее позволяет приурочить Александрию Кузмина к эпохе греческого возрождения И — III в. по P. X.
Сам М. А. Кузмин на вопрос о том, что он считает источником „Ал<ександрийских> песен“, указал докладчице на переводы древнеегипетских текстов, издававшиеся в 70-х годах XIX в. под эгидой английского Общества Библейской Археологии и выходившие в течение нескольких лет серией под названием „Records of the Past“ [224]. По мнению автора, бытовая ткань была дана ему этим материалом; общие исторические сведения его дополнили; александрийских же эпиграмматиков и элегиков Кузмин, по его словам, никогда не читал» [225].
Эти сведения (повторим, что они, несомненно, нуждаются в проверке и уточнении; параллели, проводимые докладчицей, далеко не всегда убедительны) представляют собою первостепенный интерес, так как позволяют опровергнуть многие превратные мнения об «Александрийских песнях» и их генезисе [226]. Но при рассмотрении этого цикла важно учитывать и еще одно высказывание Кузмина, зафиксированное в дневнике: «Как в эпоху Шекспировских сон<етов>, „Алекс<андрийских> Песен“ я полон был европеизма и модернизма, почему-то соединявшегося у меня с d’Annunzio, к которому я и теперь не охладел, м<ожет> б<ыть>, из чувства благодарности» (1 июня 1925 года). Еще обостреннее сформулировано это в дневнике 1934 года: «Вещи стимулирующие, дающие нам толчок к открытию целых миров, иногда бывают совершенно ничтожны. Так мне открылась античность, играющая такую центральную роль в моем самосознании и творчестве, через романы Эберса, и подлинные сокровища Эсхила и Теокрита действовали на меня значительно слабее. Именно „Император“ и „Серапис“. Влияние их можно проследить не только на „Алекс<андрийских> песнях“, но вплоть до последних лет. Такое же влияние имели на меня явления, конечно, высшего порядка, но тоже довольно „стыдные“ — d’Annunzio и Massenet» (27 декабря).
Соединение двух столь противоположных внешне тенденций внутри одного цикла, до сих пор представляющегося читателю произведением, полностью пронизанным единым духом, очень характерно не только для Кузмина, но и для тех людей, которых он видел в качестве своих слушателей. Античность в русском символизме и — шире — модернизме чрезвычайно широко использовалась не только как средство выявления аналогий с современностью (что тоже было очень распространено), но и как способ представить себе нынешнее время в качестве реального продолжения той мифологии, которая создана древними и, пройдя через века, трансформировалась в мифологию современности. Однако при обшей тенденции к такому восприятию Античности в частных подходах было чрезвычайно много различий, и «Александрийские песни» не могут полностью уложиться в традиционную для начала века схему.
Характерный пример подхода к использованию античных образов Кузмин видел в письмах Чичерина, который своей трактовкой давал возможность из древних мифов выводить теорию социальной революции, опираясь на традиционное видение мира у древних — апеллировать к сознанию современного человека, которое необходимо взорвать. Это отчетливо высказано в его письме от 10 ноября 1904 года: «Скажу вкратце: сущность в новом человеке; (Renaissance-Mensch [227]), и он теперь зарождается в двух кусках, одинаково необходимых. При осуществлении в истории эти 2 куска непременно должны осуществиться слитно. Моя формула: история идет теперь 2 руслами. Практическое осуществление будет исходная точка для бесконечного дальнейшего пути, и по необходимости немедленно вступит в силу эстетико-мистический момент, т. к. только нынешняя проза погони за наживою и культа денег отвлекают от эстетико-мистического момента, и при творчестве совершенствования человечество никак не может обойтись без эстетико-мистики, и не обойдется. Нужно видеть, что это за культ денег, исключительный, поглощающий всю буржуазную Европу, какие это сплошь лавочники, мошенники на законных основаниях, — чтобы убедиться, что тут палигенезис невозможен. Не бывало и не бывает палигенезиса, кот<орый> бы происходил только в искусстве и религии или философии, не охватывая всех человеческих отношений. Так христианство по необходимости повело к Civitas Dei [228]. У Некрасова: порвалась цепь великая: одним концом — по барину, другим — по мужику. ВСЕ человеческие отношения имеют эти 2 конца. Евлогий мог иметь рабов, к<акой>-нибудь кабинетно-философский гностик мог иметь рабов, но гностик страстный, все бросающий, Montanus — не может иметь рабов. Есть некоторая степень свободы духа, силы духа, обожествления духа, где порабощение своей собственной рабовладельческой собственности по необходимости отбрасывается. Рабовладелец есть больший раб, чем сам раб, барин — раб, милорд — раб и т. д. <…>
И греческий Зевс трепещет Прометея, и потому не есть окончательный бог. И великим богам — привилегированным, олимпийцам, грозит Götterdammerung [229], и потому они неполные боги. И Вотан боится своих Verträge [230], от нарушения которых погибнет Валгалла, и потому не есть окончательный и полный бог. Когда рядом — связанный Прометей, бог не есть полный и окончательный».
В таком представлении о современности Чичерин находит место для «Александрийских песен»: «До сих пор ты ничего не писал столь адэкватно-античного, как кусок целой действительности, столь морбидно, изящно, пантеистично, первозданно интенсивного» (5 сентября 1905 года). Дело здесь, очевидно, не только в отмеченном Чичериным замечательном художественном мастерстве цикла (в письме от 16 мая 1906 года он писал: «„Алекс<андрийские> Песни“ — наиболее Кузмин le plus pur [231], беспримесный. В них воскресают твои первейшие вдохновения и соединяются с наипоследнейшею сложностью, сжатостью, выкидыванием лишнего и слишком материального, каркасностью, схематичностью одних только lignes déterminantes [232]»), но и в соответствии его главного ощущения тому, что оба они видели в современности, пусть даже Кузмин и оставался решительно равнодушен к социалистической пропаганде Чичерина.
«Александрийские песни», создавая картину мира, проникнутого тем высоким блаженством, в котором смерть от своей собственной руки становится ничуть не менее желанной, чем существование среди всего того, что так мило человеку, где человек легко становится богом (история Антиноя в стихотворении «Три раза я его видел лицом к лицу…») и столь же легко остается человеком даже в самых низких своих обликах, как угольщик и женщина из его землянки («Что за дождь!..»), — тем самым заставляли видеть и в окружающей повседневной жизни возможность такого же существования. Мир бытийственной гармонии, столь полно воплощенный в «Александрийских песнях», легко соотносился с современностью не как аллегория или символическое воплощение одних и тех же проблем в разные эпохи, но как проекция реально существующего «здесь и сейчас», пусть в далеко не совершенном виде, на уже раз осуществлявшийся в жизни идеал.