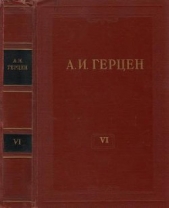С того берега
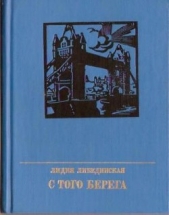
С того берега читать книгу онлайн
В жизни ушедших, и особенно ушедших давно, мы всегда ищем и находим цельность и замысел. Однако на самом деле человеческая судьба не только движется по прихотливой кривой, не только дробится на множество периодов, нередко противоречащих один другому, но даже сама кажущаяся цельность представляется разному глазу неодинаковой в зависимости от точки зрения.
Николай Платонович Огарев, незаурядный русский поэт и знаменитый революционер, не похож ни на его хрестоматийно сложившийся облик, ни на ту личность, что рисуется из статей врагов (предостаточно их было у него, как у всякого яркого человека), ни на тот сусальный, некрологически непогрешимый портрет, что проглядывает из ученых трактатов. Был он весьма разноликим, как все смертные, сложным и переменчивым. Много в нем верности и доброты, причем последнего чересчур. То и другое причиняло ему множество мелких бед и крупных несчастий, но они не только не сломили его, но даже не притупили два этих главных свойства. Верность и доброта сопутствовали ему до смерти. Что ж до цельности жизни, то на самом-то деле постоянно и неизменно испытывал он острые и глубокие терзания от естественной необходимости выбирать. И кажущаяся цельность судьбы — просто цельность натуры, всякий раз совершающей выбор, органичный душе и мировоззрению. Он никогда не лгал и делал выбор с глазами открытыми, всегда сам, кап и подобает свободному человеку, отчего и казался зачастую гибким и пластичным своим современникам, а подчас и весьма странным. Жил он в очень трудное время — но бывают ли времена легкие? Окружали его яркие и своеобычные люди. Нескольких современников его, знакомых с ним или незнакомых, нам никак не миновать, ибо нельзя восстановить облик человека вне той эпохи, в которую он жил, а эпоха — это люди, наполнявшие ее и ею наполненные. Люди, строившие свою судьбу и каждый раз делавшие свой выбор. Оттого, быть может, галерея современников часто больше говорит о человеке, нежели самое подробное описание его собственной жизни. К счастью, осталось много писем. И воспоминаний полным-полно. И архивы, где хранятся не только документы, но и труды, не увидевшие света в свое время. А что до любви к герою — сказать о ней должна сама книга.
Это книга об очень счастливом человеке. Больном эпилепсией, не раз обманувшемся в любви, об изгнаннике, более всего на свете любившем родину, человеке, который осмелился дерзнуть и добился права быть всегда самим собой.
Родился он в тринадцатом году прошлого века 24 ноября по старому стилю, в городе Санкт-Петербурге — упомянем об этом здесь, чтобы сразу же обратиться к его молодости.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Этот проект-пародию на мышление государственно рассуждающего кретина читать было смешно. А среди сотен публикаций большинство произведений, без преувеличения скажем, вызывали чувство страха.
Ибо в «Колокол» порою попадали документы, фантастические по своей выразительности, само правдоподобие которых могло бы показаться сомнительным, если бы не их подлинность. Ведь до сей поры Россия не знала, в сущности, ни о настоящих радетелях своих и героях, ни о подлецах и растлителях. Не публиковались никогда ни проекты просветления и освобождения страны, ни проекты еще большего порабощения и связывания ее. Между тем и те и другие имелись в изобилии. Один из таковых — ярчайшая картина глубинного мировоззрения одного из высоких хозяев российской жизни. Газета изгнанников, не жалея места, привела его почти целиком, лишь изредка прибегая к пересказу. И нам, для того чтобы понять людей, с которыми сталкивались те, кто действительно хотел переменить российский климат, никак не миновать этот интереснейший и страшный в своей выразительности документ.
Речь идет о записке, составленной неким высоким чиновником, бывшим «членом Совета Министра Внутренних дел, ныне директором департамента Разных Податей и Сборов, тайным советником Федором Переверзевым». Тайный советник Переверзев решительно высказывается в пользу крепостного рабства:
«Идеи о даровании помещичьим крестьянам свободы стали развиваться в России с того времени, когда для наших университетов были выписаны иностранные профессора и иностранцы сами явились для занятия мест домашних и публичных учителей».
«…Русский крестьянин вообще добр, терпелив и послушен тому, кто имеет над ним власть, сметлив, изобретателен и ко всему способен, но только по принуждению, а не по доброй воле. Дайте ему необходимое, и он совсем не будет работать. Беспечность есть его стихия… Величайшее наслаждение в жизни находит в пьянстве…»
И этих людей надо освобождать от крепостной неволи? — вопрошает автор. Да боже упаси и помилуй! Ибо тогда «добрая нравственность… истребится отвлечением поселян от сохи в бродяжничество; бедность, разврат и преступления усилятся, и наше отечество, ныне снабжающее продовольствием другие государства, само будет нуждаться в хлебе».
Кто же содействует, по мнению умиленного этого витии рабства, распространению «преступной идеи о даровании крестьянам свободы»? Философы, разумеется, эти опасные мыслители-болтуны. Кроме них, «мечтательным толкам о свободе крестьян с охотой предаются: а) студенты, б) чиновники, исключенные из службы, в) писаря, г) моты и д) все развратные и порочные, любящие всякого рода беспорядки и надеющиеся извлечь из них пользу». Кроме того, злоумышленники собираются образовывать русских крестьян, а это — пагуба несомненная, ибо «грамотность наших крестьян отклоняет их от сохи и делает их развратными».
Только в лондонской вольной печати можно было прочитать такое, а такое вразумляет и образовывает: что, как подобному человеку ненароком придется оказаться у власти?
Только в лондонской печати можно было прочитать о кошмарном всероссийском пьянстве, насаждаемом и поощряемом сверху. Приводились факты, когда сами местные власти подавляли инициативу деятелей трезвенного движения.
Только в лондонской газете спокойно и беспристрастно обсуждалась подцензурная российская печать. Сыпались из Лондона отклики и насмешки, когда купленные или запуганные газеты городили вздор или низость. Их ловили за руку, обличали во лжи, подтасовке, в угодничестве или недоумии, распекали со всей едкостью, на которую способно было перо Искандера.
Огарев же в своих статьях пересматривал все разнообразие российского государственного уклада. Он и не подозревал в себе ранее такой усидчивости и способности работать часами, ибо приходилось глубоко вдаваться не только в суть каждой проблемы, но и в ее историю. Кому угодно простили бы недостаточную осведомленность, ошибку, от незнания проистекающую, или близорукость неполного понимания, но только не ему, поэту, осмелившемуся из Лондона громогласно говорить на всю страну о том, что в своих кабинетах, окруженные десятками консультантов, обсуждали государственные сановники. Его статьи читались и незримо участвовали во всем, что меняло облик России.
Сколько он работал тогда! С наслаждением, вникая и упорствуя. Его мнение прочитывалось немедленно — тогда все читали «Колокол», включая самодержца российского. Даже поспешности, заблуждения и скоропалительные чересчур суждения этого самовольного и заочного участника всех высочайше утвержденных комиссий были ценны не менее, чем правильные и глубокие его мысли. Ибо среди нескольких десятков людей, готовивших все российские реформы той эпохи, он единственный мыслил, как свободный человек, и единственный свободным языком говорил. А ничто, как свободная речь, не стимулирует полноту и глубину мышления — вот почему мнения Огарева веско, хоть и незримо, ложились на столы дискуссий.
И не один в те поры высокий российский чиновник (или университетский профессор) говорил про себя или друзьям: как же счастлив должен быть этот вольный человек! Глубоко и неизбывно счастлив, благополучен и гармоничен. Счастьем творчества и полной жизни.
Глава третья
1
Было уже семь часов, даже чуть побольше, и ранние осенние сумерки особенно гнетуще чувствовались на этой тесной грязноватой улице, зажатой огромными портовыми пакгаузами. Огарев бродил почти без цели, сворачивая, куда придется. Цель, впрочем, была, если можно только назвать целью то странное ожидание, когда вдруг потянет тебя в случайно распахнувшуюся дверь кабачка или пивной. День сегодня выдался тяжелый и мерзкий. Давление холодного, влажного воздуха усиливало ощущение тяжести на плечах и на сердце.
Утром он читал Герцену очередную часть своей статьи об освобождении крестьян, что шла с продолжением из номера в номер как полемика с проектами государственной комиссии в России. Герцен слушал невнимательно, отводил глаза, задумывался, явно порываясь заговорить о совсем другом, что давно уже наболело у обоих. А потом неискренне похвалил статью. Фальшь, прозвучавшая в его словах, была очевидна и самому Герцену, он замялся, попытался отшутиться, вышло еще хуже, какой-то намек, ясный для обоих, неожиданно прорезался в шутке. Герцен вышел, сказав, что на минуту, просто выскочил, наскоро сославшись на неотвязную головную боль. Огарев посидел мгновение оцепенело, потом схватил, сминая, листочки статьи и выбежал, злясь на себя, что стал читать, не отработав и не доделав до конца. Потому что хуже пощечины была эта лживая похвала. Он-то знал, откуда она взялась у всегда объективного и подшучивающего над ним Искандера. Теперь отношения их, и без того последний месяц натянутые и двусмысленные, заходили в тупик даже в делах по газете и сборникам.
Как развязать этот узел, он не знал. Ситуация делалась невыносимой. Герцена не оставляло чувство вины, оно сквозило в каждом слове и каждом жесте, оно всего его переменило явственно, и внешнее спокойствие Огарева лишь сильней разжигало это чувство. В любом слове, любой просьбе и обсуждении слышался теперь обоим двойной смысл. Огарев съеживался внутренне, собирался весь, натягивался как струна, только бы ничего не выказать, а Герцен нервничал, искал иные слова, и все получалось как нельзя хуже. Разговора по душам, который они попытались было затеять, запершись однажды в кабинете, не получилось, потому что Огарев был спокоен, даже меланхоличен более обычного, а Герцен выходил из себя, плакал, попытался даже обнять Огарева, но тут самообладание изменило Огареву, и он довольно резко отстранился. Больше они не пытались ничего обсуждать. Оба играли в игру, будто ничего не происходило. Но теперь по вечерам Огарев возвращался домой поздно, чтобы ни с кем не встречаться. По делам они ежедневно разговаривали, и окружающие ни о чем не догадывались. Вот только сегодня, когда он читал статью, сорвались оба. Но Огарев не мог отдавать печатать эту часть, не обговорив отдельных мест с фактическим редактором газеты.