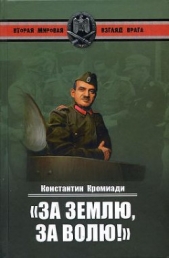В подполье встретишь только крыс

В подполье встретишь только крыс читать книгу онлайн
Поверив в юности в идеалы революции, генерал Григоренко верой и правдой служил стране. Плоть от плоти системы, он стал одним из самых ярких деятелей диссидентского движения 60-70-х годов в СССР. Именно шоком властей от того, что такой человек выламывается вдруг из их среды, объясняется, видимо, то, почему Григоренко сажают не в тюрьму, а в психушку. Наверное, он действительно казался сумасшедшим… Воспоминания генерала-диссидента – один из интереснейших документов безвозвратно ушедшей эпохи.Первые варианты рукописи мемуаров генерала П. Григоренко исчезали: врачи психушки изымали, экземпляры пропадали в КГБ. Только оказавшись на Западе, генерал смог дописать свою книгу. Это исповедь разочарованного в советской системе человека, до поры до времени считавшего все неудобства советского строя случайными, а потом вдруг разглядевшего в них систему
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Иностранные корреспонденты много раз хоронили нас в связи с арестами известных им или, как они называют, видных диссидентов. Потом с удивлением убеждались, что все идет по-прежнему. Мы и сами иногда не понимали, как дело сохранялось. А оно не только сохранялось… развивалось. Людей прибывало всегда больше, чем убывало. По принципу расширенного, так сказать, воспроизводства. И никто из вновь прибывших не хотел быть без дела. Будучи же предоставлены самим себе, они проявляли широкую инициативу и находили оригинальное развитие ранее начатого или совершенно неожиданное направление. Так произошло и со мной.
В. Буковский – старый участник движения был занят по горло. Познакомившись со мною, он свел меня с наиболее подходящим человеком и, подбросив нам идею клуба политзаключенных, удалился. Идея мне не подошла, но я продолжал расширять круг связей и присматривался к своим новым друзьям. Алик Гинзбург отдал довольно много времени на беседы со мною, за что я ему до сих пор признателен. Однако каких-либо указаний и советов – что делать – не получил я и от него. Юра Галансков был так занят, что совсем тогда не мог уделить мне время. А после уже не стало возможности. И я продолжал ходить на вечерние беседы к Алексею Евграфовичу Произошли и новые события. Из мордовских лагерей прибыли двое заключенных: Юра Гримм и Анатолий Марченко. Последний ворвался в московский самиздат даже не событием, а чем-то еще большим – ЯВЛЕНИЕМ. Его книга «Мои показания» – прекрасная в литературном отношении, открывала совершенно неожиданный новый мир.
К этому времени уже прошли и через «самиздат» и в подцензурной печати большое количество книг о сталинских лагерях. Но об ужасах, творившихся там, говорилось в этих книгах только в прошедшем времени. Создавалось впечатление – так было, но теперь все совершенно по-иному. Книги эти читались как роман со счастливым исходом. И вот в эту спокойную благодушную среду врывается мужественный решительный голос: «Проснитесь. Успокаиваться рано. Посмотрите, что делается в современных лагерях, в чем-то лучших, а в чем-то еще худших, чем сталинские».
Повествование начинается с рассказа о расстреле трех беглецов. Люди окружены, сдаются: с поднятыми руками подходят к солдатам погони. И когда они останавливаются, чуть ли не касаясь дул автоматов, их расстреливают в упор. И так шаг за шагом, картину за картиной, прекрасным литературным языком Марченко рисует жуть бесчеловечья. Сталинщина никуда не ушла, она продолжает жить и… совершенствуется – таков бесспорный вывод, вытекающий из книги. Можно было не сомневаться – даром ему эта книга не пройдет. Судить, конечно, будут не за книгу. Не станут рисковать. Ибо как опровергнешь бесспорные факты. Но наша система лицемерия найдет за что осудить. И кара не заставила долго ждать. Не прошло и года, как с Марченко рассчитались.
Юра Гримм никакого «события» с собой не принес. Для меня он сам явился «событием». Во-первых, он пронес в своей памяти сквозь три года лагерей мой адрес и, выйдя на свободу, пришел знакомиться с моей семьей, поблагодарить Зинаиду Михайловну за передачи в институт Сербского, которые она посылала в расчете и на моих товарищей по несчастью, и осведомиться о моей судьбе. Он не рассчитывал встретить меня на свободе. Наоборот, был уверен, что меня упаковали прочно и надолго. Сам он получил «всего» три года. А так как его листовки были антихрущевского содержания, то его «преступление» после снятия Хрущева стало считаться не очень серьезным, и ему предложили писать на помилование. «Помилован» он был за три месяца до конца срока. Милость как будто невеликая, в действительности, дорого стоила.
Помилование снимает судимость, а это дает право жить в Москве. А здесь у него квартира, семья, родители, друзья. Он возвращается в обжитое гнездо. А если бы он вернулся по окончании срока, ему пришлось бы «лететь» на новое место, искать работу, квартиру, обживаться в новой среде. Жителю другой страны сложно понять эти трудности, но пусть поверит мне на слово, что в таких случаях освободившийся из заключения, как правило, покидает Москву один – семья остается там. Жизнь на два дома тяжела и неустроенна, что нередко ведет к развалу семьи.
Юра все это прекрасно понимал, но вначале отказался просить помилования. «Я невиновен, – говорит он, – меня осудили незаконно. Могу написать жалобу с просьбой отменить незаконный приговор». Такая реакция – это то второе, что делало Юру «событием» для меня. Он политически возмужал, стал глубже понимать и спокойнее воспринимать происходящее в стране. На «помилование» он в конце концов написал. Но только после того, как ему посоветовали товарищи, прежде всего, Юлий Даниэль и Александр Гинзбург, с которыми Юра отбывал заключение в одном лагере. Сейчас он искренне радовался встрече со мною. Мы много говорили, часто встречались. И не только мы с Юрой, но и семьями. Юра, его жена Соня и сын Клайд стали нам близкими, родными. Все последующее десятилетие они прошли с нами рядом, являясь надежной опорой нашей семьи, особенно в самый тяжкий период, когда я отбывал свой второй срок в психиатрической тюрьме.
Жизнь между тем шла своим чередом. Все заметнее становилось, что правительство настойчиво поворачивало штурвал государственного корабля на обратный курс. Сталинские методы руководства страной, несколько расшатавшиеся под воздействием 20-го и отчасти 22-го съездов КПСС, восстанавливались все настойчивее. Наиболее заметно, грубо реально проявлялось это в карательной политике против развивающейся правозащиты. Суд над участниками демонстрации на площади Пушкина 22 января, протестовавшими против арестов Галанскова, Гинзбурга, Добровольского и Лашковой, и затянувшееся следствие над этой четверкой были ярким примером этого.
Но сталинизм наступал и в литературе, и в искусстве, и в науке, и во всех других областях жизни. Карательной политике, основанной на произволе, мои новые друзья противопоставили, хотя и не сильное, но упорное сопротивление. В иные области правозащита еще не проникла или, может, мы об этом не знали. Судьбе угодно было бросить меня на один из неохваченных еще правозащитой участков наступления сталинизма. В первых числах сентября вышла сентябрьская книжка (№ 9) журнала «Вопросы истории КПСС» за 1967 год. В ней опубликована статья «В идейном плену у фальсификаторов истории». Речь в ней идет о книге А. Некрича «1941. 22 июня», которая вышла в 1965 году и тогда получила весьма положительные отзывы. Теперь уже по заголовку статьи было видно, оценка этого труда кардинально изменилась. Настораживали и авторы – генерал-майор (от политработы) Б. С. Тельпуховский и профессор полковник (от политработы) Г. А. Деборин мне хорошо известны. Мысли от них ждать нечего, но наверняка они всегда несут в своей писанине последние военно-исторические «истины» ЦК. Поэтому я очень внимательно, с карандашиком в руках, проштудировал их «творчество». Охватившее возмущение постарался подавить. Потерпел несколько дней, успокоился и сел за работу. Обдумывая содержание, никак не мог свести его к одной ведущей мысли, что для журнала предпочтительнее. Вырисовывались две цели:
– ударить по попытке ошельмования автора смелой для наших условий, правдивой книги и одновременно
– вскрыть причины разгрома советских войск в начале войны и указать на виновников этого.
Такая двуединая цель вытекала из того, что Некрич в своей работе не поставил всех точек над «i». И его никто за это не ругал. Основная масса историков и военных понимали, как трудно в подцензурном издании написать работу о войне, которая читалась бы не под звуки «Гром победы раздавайся…» А Некрич первым попытался дать правдивый очерк начального периода войны, но для этого ему пришлось, идя на уступки цензуры, сглаживать острые углы, кое-что не договаривать, кое о чем умалчивать. Ведь считали «лиха беда начало». Потом, когда эта книжка займет прочное место на библиотечных полках, можно будет в других работах договорить недоговоренное здесь. Именно поэтому на обсуждении книги в 1965 году все высказывались только в ее защиту. Но имевшиеся в ней недостатки от этого не исчезли. И теперь, когда на книгу совершено предательское нападение, когда против нее выдвинуты лживые обвинения, защищать ее именно из-за допущенных в ней недоговоренностей и умолчаний стало почти невозможно. Любое лживое нападение надо разоблачать, противополагая полную правду, в ее полном и ничем не прикрытом виде.