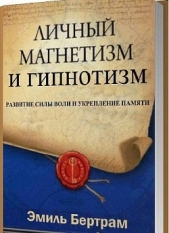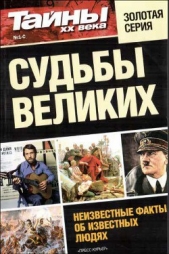Воспоминания "Встречи на грешной земле"

Воспоминания "Встречи на грешной земле" читать книгу онлайн
Есть люди, с которыми ты не только знаком, но даже дружишь, вас связывают взаимные симпатии и интересы... Но вот эти люди умерли, и ты понимаешь, что лишился навсегда едва ли не самого ценного в жизни — духовного общения с близким человеком. Понимать-то ты это понимаешь, однако чувства так и не могут с этим примириться...
Этот сборник, естественно, не мог вместить всех моих «встреч на грешной земле» — да я и сейчас продолжаю встречаться и писать. Увидит ли написанное свет — зависит не от меня. И даже не от издателя — он обещал еще в этом году выпустить второй том, — а только от вас, моих читателей...
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Я слушал их развесив уши, признаюсь, не без удовольствия. И у меня возникли два образа из «Лебединого озера» — белый и черный лебеди. Понимаю, что это может быть банально и даже пошло, но, пока братья перебрасывались фразами, передо мной точно мелькала балерина то в белой, то в черной пачке.
Вряд ли Катаев был на самом деле очень уж плохого мнения об артистах, над которыми измывался. Скорее
просто захотел продемонстрировать перед молодым автором силу своего неотразимого словесного мастерства и попутно поставить на место младшего брата. Да и вообще актеры, наверное, оказались лишь подвернувшимся поводом для литературной гимнастики.
Уходя, я однако подумал: а что, если Валентин Петрович расчихвостит меня вслед, тоже для разминки литературных мускулов? Не повредит ли это мне в глазах Петрова, мнением которого я очень дорожил. К счастью, как потом оказалось, Катаев отнесся ко мне снисходительно.
А потом была война, на которой погиб Евгений Петрович Петров. И мы встретились с Катаевым спустя несколько лет в Переделкино.
Уже шли мои пьесы, и я жил в Доме творчества писателей, а Катаев — на своей даче, расположенной напротив. Я у него побывал раза три-четыре, не больше. Но об одной из прогулок по аллее, проходящей между дачей и Домом творчества, хочу рассказать подробнее. На этот раз мы шли втроем: Катаев, Лев Славин, который проживал там же на своей даче, и я.
Катаев и Славин — оба одесситы, вспоминали молодость, а я помалкивал и слушал, как они изощрялись друг перед другом. Речь шла всего лишь о посещении одной известной им обоим кондитерской, принадлежащей, если не ошибаюсь, мадам Розе.
Но что они сделали из этой темы! Помните рассказ Тургенева «Певцы»? Так вот это было нечто подобное, но на кулинарном материале.
Сначала говорил Славин. «А помнишь, Валюн?» — сказал он, приступив к описанию фисташкового пирожного. Остановившись на его общем виде, он затем прошелся по всем составным частям и завяз в креме. Славин особо аргументировал, почему именно этот крем предпочитал остальным, о которых тоже не забыл упомянуть. А затем пробежался еще по нескольким сортам пирожных, и Катаев, слушая его, кивал головой и хмыкал, разной степенью громкости отмечая, скорее всего, также разные степени одобрения. Славин уже не говорил, а почти пел зажмурившись, и Катаев все более размаши-
сто кивал головой. Славин действительно показал себя мастером слова. Во всяком случае, я понял, что в моей жизни есть пробел, который, увы, уже не удастся восполнить, — не побывать мне в кондитерской мадам Розы!
Затем заговорил Катаев. «А помнишь, Левчик?» — так тоже начал он, и полились, нет, запорхали, такие воспоминания, что я почувствовал, как стали физически возникать те самые пирожные, о которых говорил Валюн. Я позволил себе назвать его так фамильярно, ибо воспоминания Катаева сопровождались постанываниями Славина, среди которых только и звучало: «Ох, Валюн!.. Ну, Валюн...»
Катаев живописал, и вы ощущали у себя во рту похрустывание миндального пирожного. А потом ваши зубы погружались в пропитанную ромом картошку. А затем во рту таяли лепестки «наполеона», прослоенного кремом, легким, как морская пена. А потом...
Короче, когда мы дошли до конца аллеи и повернули обратно, я не только успел побывать у мадам Розы, но хоть и подошло обеденное время, а об очередной трапезе не могло быть и речи. Я был сыт и, как мне казалось, даже прибавил в весе.
На мой взгляд, литературное мастерство Катаева делало его классиком. Но вот странность. Хотя жизнь Катаева сложилась, пожалуй, на редкость благополучно — ему удалось написать и напечатать все, что хотел и как хотел, — хотя он был обласкан и отмечен всеми возможными наградами и званиями, но он не был добр ни в жизни, ни в своих произведениях. Разве лишь когда описывал детей или вспоминал родителей.
Он предпочитал замечать дурное, делая это с безусловной точностью и правдивостью. Так что, казалось бы, претензий быть не может. А все-таки...
Короче — черный лебедь.
Будучи циником, он хорошо знал изнанку всего. Об одном случае, который это подтверждает, я тут расскажу. Находясь тогда на даче Катаева, я присутствовал при состоявшемся разговоре. Он изложен как монолог и, возможно, позволит судить о катаевской манере говорить.
А суть дела была в следующем. У Катаева есть рассказ «Отче наш» о судьбе еврейской женщины. Этот рассказ решили экранизировать на «Мосфильме». Молодой режиссер написал хороший сценарий, и работа началась. И вдруг съемки запретили. (Это было в брежневские времена.) Вызвали и сказали: «А этой картины в плане нет». «То есть, как нет? Ведь обсуждали? Хвалили сценарий! Приняли!» На это ответили так: «Товарищи, не будем тратить время на разговоры. Нет, значит нет. Все».
Стали думать — как быть? Режиссер и редактор созвонились с Катаевым и приехали к нему в Переделкино.
«Что? — сказал Катаев. — Вы хотите, чтобы я пробивал вам этот фильм? Я уже пробил свой рассказ, а картину пробивайте сами. Все равно ничего не выйдет. (Возражения он не слушал, перебивал и слушал только себя.) Что вы прикидываетесь детьми? О чем фильм? Об еврейке? А вы знаете, где живете? Кому это нужно? У вас есть свой человек в верхах? А иначе бессмысленно. Слушайте (кивок редактору), опишите ему (кивок на режиссера) наше общество в разрезе. Все эти — директор «Мосфильма», министр культуры и его замы — чиновники. Им не положено иметь своего мнения. Но они имеют сомнения. Должны иметь, для того их и держат. Эти сомнения они высказывают наверх. Там тоже не полагается иметь мнения. Но там имеют право сказать: «Посоветуемся». И советуются уже со своим начальством. А это начальство уже может по некоторым вопросам иметь мнение. Но не по всем. Если превысят свои полномочия — снимут. Но уже на самом верху, там всегда свое мнение есть. Вот туда у вас имеется ход? Нету? Тогда плохо.
Потому что этот случай могут решить только там. А все прочие вас будут выслушивать, хвалить за талант, мычать и так далее, без конца, пока вы не отстанете.
Как же быть? Есть один путь. Неверный, но все же. Дело в том, что есть у нас одна сила — бумага. Бумага это вам не телефонный звонок, от которого нет следа. На бумагу надо наложить резолюцию. Входящие, исходящие... Бумага не может повиснуть в воздухе. Она ляжет на чей-то стол и не может лежать без конца. У нас иногда даже боятся бумагу. Особенно если она подписана несколькими видными именами. Сделайте так. Напишите бумагу и
подпишите известными режиссерами — Ромма не надо. И пошлите ее в два адреса: в ЦК и копию Демичеву (тогдашний министр культуры). Не надо писать, что это на важную тему, что фашизм поднял голову и так далее. Покороче. Если больше страницы — читать не станут, хоть это был бы шедевр. Надо так: «По известному рассказу Катаева «Отче наш» собирались ставить фильм. Сценарий принят, средства затрачены, группа есть, все есть. И вдруг — исключили из плана. Считаем: результат административного недомыслия. Просим принять меры и указать». И — подписи. Все.
А Демичеву сопроводительную. Дескать, уважаемый Петр Нилович, посылаем вам копию нашего письма в ЦК и просим поддержать. И опять — все подписи.
А теперь я вам скажу, что из этого может выйти. Вы думаете — придет бумага и все всполошатся? Ничего подобного. Возможны варианты. Первый: сверху напишут резолюцию: «Разберитесь». И попадает бумага к тому же Демичеву. Теперь — как он, да? Получив копию, может рассердиться: почему копия? И будет ждать бумагу сверху. Или второй: сам пойдет наверх. И так как никто из них моего рассказа, конечно, не читал, то может произойти все, что угодно. Вот как было с моим «Святым колодцем». Сначала хотел печатать Поповкин в «Москве». Потом стал кряхтеть, чесать голову — дескать, цензура. А я выяснил — цензура ни при чем, это он не хочет печатать. Передал вещь в «Новый мир». Там ухватились. И вдруг действительно цензура: «Стоп!» Туда, сюда. Ни с места. Два года ни с места. Помогла жалоба одного писателя в ЦК. Дескать, я издевательски назвал его севрюгой. Почему его, ведь имени нет? А его когда-то нарисовали в виде севрюги. Значит — линия, травля. И мне звонок из ЦК: «Слушайте, мы прочли и смеялись. Но тут пришел этот и жалуется. У нас к вам просьба — замените севрюгу». — «А другую рыбу можно?» — «Лучше не надо». — «А птицу?» — «Это можно». — «Например, дятла?» — «Пожалуйста». Ну, я обрадовался: это даже лучше — стучит. И сразу все завертелось. Цензура хотела опять стоп, а ей из ЦК: «Что у вас там? Не выдумывайте!» И все в порядке, напечатали. Так что неизвестно, что поможет, а что помешает. Но нужна бумага. Бумага — это сила».