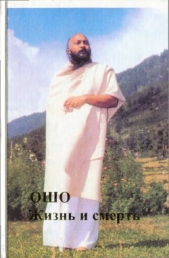Красавицы не умирают
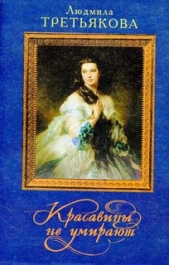
Красавицы не умирают читать книгу онлайн
«Красавицы не умирают»... Эта книга Людмилы Третьяковой, как и первая — «Российские богини», посвящена женщинам. Трудные судьбы прекрасных дам убеждают: умение оставаться сильными перед неизбежными испытаниями, решимость, с которой они ищут свое счастье, пригодились им гораздо больше, чем их прославленная красота. Их имена и образы возникают из прошлого внезапно. Свиданье с ними кажется невозможным, но так или иначе оно случается. Библиотечные полки, сцена, кинофильмы, стихи, музеи, города и улицы, хранящие легенды, учебники, биографии великих людей — оттуда они приходят к нам и надолго остаются в памяти.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Письма из России то и дело возвращали Софью Васильевну к печальной реальности. Ковалевский оставался ее мужем и отцом ее дочери. Кроме того, как это часто и необъяснимо бывает, даже после всех семейных дрязг, даже в очарованности поляком Софья Васильевна не могла поручиться, что с привязанностью к Ковалевскому окончательно покончено. Оттого в ее письмах отчаянные резкие фразы перемежались словами любви и нежности.
И вот в самый разгар своего парижского романа она получила письмо, написанное незнакомой рукой. Ее извещали, что Владимир Онуфриевич покончил жизнь самоубийством.
...Несколько недель Ковалевская лежала в жесточайшей горячке. Когда наконец поднялась, хозяйка пансиона поразилась перемене, произошедшей в ней. Чистое, светлое лицо Ковалевской, не собиравшееся прощаться с юностью, будто подернулось пеплом. Глаза смотрели измученно.
Едва собравшись с силами, Софья Васильевна выехала в Россию. Дальняя дорога, когда нечего было делать, а только думать и вспоминать, вспоминать и думать, растягивала донельзя ее страдания. Угрызения совести не давали покоя. Она старалась быть честной и не могла не признать, что в этой страшной кончине повинна и она. Владимир остался один на один со своей бедою. Его доконал не денежный крах, что он, вероятно, пережил бы. Но мужа обвинили в мошенничестве, обесчестили. И тогда его рука потянулась к газовому крану.
...Приезд в Россию был печален. Без Софьи Васильевны схоронили ее отца. Без нее опустили в землю гроб мужа. Эти две утраты как-то особенно остро чувствовались здесь, на родине. Любимый теплый дом в Палибино без хозяина пуст. Пусто и в их с Владимиром некогда семейном обиталище. Пусто было и на сердце. Единственная мысль не дает покоя: муж умер оклеветанным. Словно выполняя невысказанное желание покойного, Софья Васильевна взялась хлопотать о восстановлении его честного имени. Задача была трудная: она наткнулась на равнодушие и откровенную бессовестность. Тем энергичнее и настойчивее становились ее действия. Ковалевская не успокоилась, пока правда не восторжествовала. Это была горькая радость, вслед за которой пришли неотвязные раздумья: как, чем жить дальше?
Неожиданно она получила письмо от Вейерштрасса. Он как будто угадывал, когда ей было особенно плохо, и неизменно предлагал помощь. Милый, добрый старик! Девятнадцать лет, с того самого момента, как женщина в нелепой шляпке переступила порог его жилища, его мысли неизменно будут обращены к ней. Но все, что достанется профессору от его безмолвного чувства к Ковалевской, — это пачка писем, которую он бросит в огонь камина, узнав, что пережил свою ученицу.
Однако в тот час, когда Софьей Васильевной владело полное смятение, он напоминал ей, что у нее есть верный друг. А стало быть, есть дом, где она может жить на правах его сестры, — профессор не смел предложить большего.
Берлин? Но там нет для нее работы, думала Софья Васильевна, а нахлебницей у доброго Вейерштрасса она не станет. В поисках выхода Ковалевская написала Миттагу-Леффлеру в Стокгольм. Она боялась его «да» так же, как и «нет». Если «да» — сумеет ли она, женщина, к которой наверняка отнесутся предвзято, остаться на высоте и не подвести симпатичного шведа? А он прислал ответ: «Да». Осенью 1883 года Ковалевская пишет Миттагу-Леффлеру: «Я надеюсь долгие годы провести в Швеции и найти в ней вторую родину». В ноябре, оставив дочку родственникам, она отправилась в Стокгольм... Балтика в это время особенно неприветлива. Свинцовые облака неслись вслед пароходу, плывущему в неспокойных волнах. Куда она направлялась, зачем? Оторвавшись от земли, которая была к ней так сурова, Софья Васильевна не чувствовала радости освобождения.
В Швеции она проведет почти восемь лет, до самой смерти. Отлучки в Россию и во Францию будут недолгими.
* * *
Первое, что делает иностранец, пока не врос в новую среду, — сравнивает. Не нужно было особенных стараний, чтобы заметить, насколько люди здесь мягче и предупредительнее. Это свойственно всем: толпе, суетящейся возле рыночных прилавков, и членам парламента. Конфликтов, выяснений отношений, желания насолить друг другу не было, и Ковалевская сделала вывод, что это итог куда более спокойной, чем у России, истории.
Приятно удивил ее и новый университет — дитя частной инициативы и добровольных пожертвований. Система обучения здесь была гибкая, направленная на то, чтобы в первую очередь удовлетворить человека, пришедшего учиться, а не департамент просвещения. Стоит ли говорить, как приятно было Ковалевской видеть в студенческой толпе женские лица. Мужчины и женщины допускались к слушанью лекций на совершенно равных правах и безо всяких оговорок.
Сначала Ковалевской было предоставлено место приват-доцента, а летом 1884 года ее назначили ординарным профессором. Она читала четыре лекции в неделю, то есть два дня по два часа подряд. Кроме того, на ней лежала обязанность участвовать в заседаниях университетского совета. Безусловно, это льстило самолюбию Ковалевской, все-таки ожидавшей, что дискриминация ее, как ученой-женщины, даст себя знать. И потому она подчеркивала особо: «Я имею право голоса наравне с прочими профессорами».
На первых порах Ковалевская предложила своим слушателям выбрать, на каком языке они хотели бы слушать ее лекции: на немецком или французском. Они выбрали первое. А их профессор уже упорно штудировала шведский. Сверходаренная к тому же и трудолюбием, и упорством, Ковалевская настолько быстро им овладела, что на второй год смогла читать лекции и на шведском.
Благополучное вхождение в университетскую среду окрылило Ковалевскую. Она почувствовала себя на взлете. И, словно беря реванш за российские годы, ничего не давшие научной карьере, принялась наверстывать упущенное. А поставив перед собой какую-либо цель, она была беспощадна к себе. Работа по ночам, без выходных и праздников, работа до полного изнеможения.
От чрезмерных перегрузок у нее стали выпадать волосы, и она, как истинная женщина, с нескрываемым ужасом переживала это. Но по-прежнему свет в ее окне гас с восходом солнца. Еще бы! Софья Васильевна понимала, на что замахнулась. Если сначала ей хотелось достигнуть таких результатов, чтобы ни одна женщина не смогла соперничать с ней на стокгольмской кафедре, то скоро ставки повысились. Она пишет: «Я бы не хотела умереть, не открыв того, что ищу. Если мне удастся решить проблему, которой я занимаюсь теперь, то имя мое будет занесено среди имен самых выдающихся математиков».
Но стать избранницей истории трудно, очень трудно. Тщеславие же Ковалевской равновелико ее таланту, и никакие жертвы не пугали ее. Сейчас или никогда.
Уже первый «шведский» 1883 год приносит ей успех. Большая работа о преломлении света в кристаллах вызвала, по словам Ковалевской, «впечатление в математическом мире».
* * *
Разумеется, благополучное вхождение в научную элиту Швеции придало Ковалевской уверенности. Не без тайного удовлетворения читала тридцатитрехлетняя женщина в газете:
«Сегодня нам предстоит сообщить не о приезде какого-нибудь пошлого принца крови или тому подобного, высокого, но ничего не значащего лица. Нет, принцесса науки, г-жа Ковалевская почтила наш город своим посещением и будет первым приват-доцентом женщиной в Швеции».
Итак, она могла себе сказать, что цель, которая потребовала столько жертв, ради которой она ринулась по неизвестному, таящему опасности пути, достигнута. Ученый мир признал ее настолько, что доверил воспитание молодых математиков.
Ковалевская могла поздравить себя и с тем, что стокгольмский свет, как везде придирчивый и подозрительный к чужеземцам, отдал должное ей и как математику, и как женщине.
«В особенности интересна г-жа Ковалевская; она профессор математики и, со всей алгеброй, все же настоящая дама. Она смеется, как ребенок, улыбается, как зрелая и умная женщина... На лице ее происходит такая быстрая смена света и теней, она то краснеет, то бледнеет, я почти не встречал раньше ничего подобного. Она ведет разговор на французском языке, свободно изъясняется на нем и сопровождает свою речь быстрой жестикуляцией. Это могло бы действовать утомительно, если бы не было очаровательно; она похожа при этом на кошечку», — пишет один из светских знакомых Ковалевской, и его впечатление подтверждается многими другими.