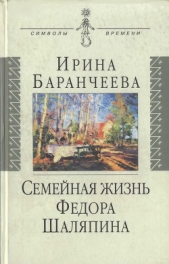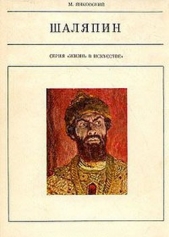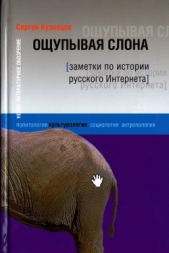Сергей Лемешев. Лучший тенор Большого

Сергей Лемешев. Лучший тенор Большого читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Дм. Головин представлял полную противоположность Ханаеву! Натура стихийная, прямо-таки «начиненная» противоречиями! Головин был одним из немногих певцов, которые позволяли себе приходить на репетиции несобранными, взбудораженными. Но, по-моему, происходило это не от легкомысленного отношения к делу. В этом находил выражение бурный артистический темперамент певца. Вероятно, иначе он просто не умел работать. Он вечно с азартом вступал в конфликты с дирижерами, нередко дезорганизуя этим ход репетиции.
Естественно, что выступления Головина в спектаклях были очень неровные.
Но в пору своего расцвета, в конце 20-х и начале 30-х годов, он часто пел так, как, пожалуй, до него никто не пел. Голос его по диапазону представлялся бесконечным, казалось, его вполне хватило бы на двух певцов! Поражала не только сила звука, но также легкость и свобода, с которыми он преодолевал все технические трудности. И артистический темперамент певца был под стать его вокальному дарованию. Когда Головин был «в ударе», на сцене, за кулисами и в зрительном зале царил праздник, небывалый подъем. После его первых выступлений в «Демоне» на тбилисской сцене, помню, не только зрители, но и многие из певцов словно шалели от той стихии звука и мощного драматизма, который обрушивал на них Головин.
Или Фигаро! Умный, темпераментный, полный какой-то обаятельной хитрости. В его герое словно ожила блистательная находчивость создателя «Женитьбы Фигаро».
Поэтому с ним было петь необыкновенно легко: мой Альмавива мог целиком положиться на «фонтан идей» Фигаро – Головина.
А Борис Михайлович Евлахов! Мне кажется, что этот замечательный артист, имевший в свое время огромный и заслуженный успех у публики, сейчас несколько забыт. Напрасно. В даровании Евлахова счастливо сочетались великолепные сценические данные – стройная, высокая фигура, правильные черты лица, еще более выигрывавшие под гримом, а главное, всегда живые, озаренные искренним чувством глаза и красивый лирико-драматический голос, музыкальность, острое чувство сцены, талант к перевоплощению. Душевное благородство, такт, скромность, которые были так свойственны Борису Михайловичу в жизни, он приносил с собой на сцену, и эти черты всегда придавали его образам необычайно привлекательный отпечаток интеллигентности, сердечной теплоты и обаяния.
Когда Евлахов – Герман появлялся впервые на сцене, он сразу приковывал к себе внимание: бледный – не от грима, а от внутренней взволнованности, действительно поглощенный одной мыслью, одним чувством, со взглядом, словно углубленным в себя…
Помнится и его Радамес. Особенно хорош был Евлахов в сцене судилища, когда он с глубоким негодованием отвергал любовь Амнерис, предпочитая умереть, но остаться верным своему чувству к Аиде. Вспоминал я Евлахова и тогда, когда слушал гастрольный спектакль «La Scala» «Турандот». В Большом театре эта опера Пуччини шла в 30-х годах с великолепным составом, в котором одно из центральных мест занимал Евлахов – Калаф. Как всегда, он был очень хорош внешне, но главное – пел на огромном «нерве», казалось, что большая напряженность тесситуры этой одной из труднейших теноровых партий только лишь способствовала обогащению его вокально-сцениче-ской палитры. В охватившем Калафа чувстве любви к Турандот Евлахов находил столько нюансов, красок, был так разнообразен в своих отношениях к отцу, к Лиу, что перед нами представал не сказочный принц, а живой человек, со многими присущими ему чертами характера. Даже когда Калаф, рискуя жизнью, открывал свое имя жестокой принцессе, это находило оправдание именно в той душевной искренности, которую певец сообщал герою. Артистизм Евлахова захватывал и в партии Рудольфа.
Эту партию вместе с Б. Евлаховым и А. Алексеевым готовил и я в новой постановке «Богемы» в 1934 году под управлением Л. Штейнберга.
Рудольфа я пел уже в Тбилиси, и встреча с этой партией на сцене Большого театра мне не дала новых впечатлений, тем более что дирижер и режиссер не ставили перед собой больших художественных задач. Нам предоставлялось действовать самостоятельно, искать образ прежде всего в музыке, в пении.
В спектакле мне запомнились прежде всего мои партнеры. Мне очень нравился А. Содомов в партии Коллена, тепло и проникновенно певший свое ариозо (прощание с плащом). Для этого замечательного певца, обладающего красивым, чисто оперным голосом, вокальных трудностей как будто не существовало. Он пел, отдаваясь чувству, даже и не помышляя о технической стороне: все удавалось само собой. Непринужденное, тонкое, грациозное пение Катульской и Барсовой в сочетании с присущим обеим певицам виртуозным блеском гармонировало с образом взбалмошной, капризной парижской гризетки. Но в последнем акте вдруг перед нами представала другая Мюзетта – человечная и трогательная. Очень любил я в роли Мими Жуковскую, изумлявшую выразительной красотой голоса. Уже в самом его звучании рождался образ – всегда мягкий, трогательный, искренний и удивительно женственный. Я уверен, что для партии Мими, в противоположность Мюзетте, более подходит крепкое лирическое сопрано, ведь надо, чтобы ярко и драматично прозвучали центральный эпизод ее рассказа в первом акте (особенно этого требует плотная оркестровка), квартет и дуэт в третьем. Так и партия Рудольфа, мне кажется, требует крепкого голоса. Для чисто лирического тенора она тяжеловата и по очень насыщенной красочной оркестровке и по таким эпизодам, как сцены второго акта, драматический квартет третьего. Мне всегда нравилась музыка Рудольфа, но я не очень часто позволял себе петь эту партию, чувствуя, что она создана для более крупного звука, нежели мой. Кстати сказать, например, партия Ромео, несмотря на то, что она более эмоциональна, страстна, горяча, написана, мне кажется, именно для лирического голоса. А вот Рудольф, как и большинство теноровых партий Пуччини, рассчитан на меццо-характерный или лирико-драматический голос.
Поэтому я предпочитал в этой роли Б. Евлахова.
Во второй половине 30-х годов был осуществлен ряд интересных постановок, во многом вдохновленных инициативой Самуила Абрамовича Самосуда, тогда только пришедшего на пост главного дирижера и художественного руководителя Большого театра.И все же главной бедой театра этих лет, как, впрочем, и многих других оперных коллективов, была бедность современного репертуара.
Огромному и в силу этого малоподвижному аппарату Большого театра трудно было приспосабливаться к экспериментам.
Он не принимал быстротечных явлений современной западной оперы, в то время влиявших на репертуар ленинградских оперных театров и отчасти московского музыкального театра имени Вл. И. Немировича-Данченко («Джонни наигрывает» Э. Кшенека). Но был и слишком «надежно» отгорожен от интересных произведений зарубежных композиторов нашего века. Слабая «маневренность» театра, застойность его репертуара мешали творческой активности коллектива. Лишь очень немногим певцам моего поколения удалось воплотить на его сцене образы новых героев. Для них понадобились могучие героические голоса, способные создать мощные характеры. В новом репертуаре сразу же выдвинулись такие певцы, как А. Пирогов, Н. Ханаев, Б. Евлахов, В. Давыдова, Н. Чубенко. Лирическим же певцам почти нечего было петь в советских операх: партий для нас почему-то не писали. Вплоть до 1955 года, когда был поставлен «Никита Вершинин» Д. Кабалевского, мне так и не удалось исполнить сколько-нибудь значительную роль в советской опере. Двадцать пять лет, то есть лучшие годы моей артистической жизни, я был лишен возможности воплотить те образы, которые так хорошо знал в жизни. И сейчас, слушая молодых певцов, добившихся признания в советской опере, я радуюсь за них и немного грущу о себе…
Но я бы покривил душой, если бы не сказал, что эти мысли родились у меня значительно позже. Во все годы я не испытывал недостатка в творческой работе, проходя в Большом театре свои «университеты».
Что же касается чувства нового, то я уверен, что если артист им обладает, то это неизбежно скажется в его творчестве. К тому же мне встретилась все-таки партия, в которой я почувствовал возможность выразить что-то близкое духовному миру современного человека. Это – Владимир Дубровский, одна из самых любимых моих ролей, доставившая много творческой радости и волнений. Его я спел впервые в 1936 году.