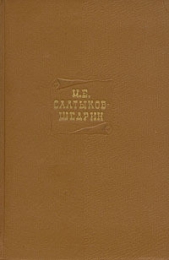Том 6. Публицистика. Воспоминания

Том 6. Публицистика. Воспоминания читать книгу онлайн
Имя Ивана Бунина (1870–1953) — одного из проникновенных, трагических классиков русской литературы, почетного академика изящной словесности, лауреата Нобелевской премии (1993) — известно во всем мире.
В шестой том включено философско-публицистическое сочинение писателя — «Освобождение Толстого», воспоминания о Чехове, мемуарные очерки из книги «Воспоминания». Впервые в советское время публикуется большой пласт Дневников Бунина. В том вошли также избранные статьи и выступления.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
В воспоминаниях Александры Львовны сказано:
— Маша угасала. Я вспомнила Ванечку, на которого она теперь была похожа… Тихо, беззвучно входил отец, брал ее руку, целовал в лоб… Когда она кончалась, все вошли в комнату. Отец сел у кровати и взял Машу за руку… При выносе тела из дома, он проводил гроб только до ворот — и пошел назад, в дом…
Об этом удивительно рассказал Илья Львович:
— Когда понесли гроб в церковь, он оделся и пошел провожать. У каменных столбов он остановил нас, простился с покойницей и пошел по пришпекту домой. Он шел по тающему мокрому снегу частой старческой походкой, как всегда резко выворачивая носки ног, и ни разу не оглянулся…
В 1903 году он записал:
— Страдания, — всегда неизбежные, как смерть, — разрушают границы, стесняющие наш дух, и возвращают нас, — уничтожая обольщения материальности, — к свойственному человеку пониманию своей жизни как существа духовного, а не материального…
Писал и говорил то же самое не один раз и раньше и позже.
— Думают, что болезнь — пропащее время.
Говорят: «Вот выздоровлю — и тогда…» А болезнь самое важное время…
Вспоминая самые трудные часы своих собственных тяжелых болезней, умилялся:
— Эти дорогие мне минуты умирания!
И про дочь писал так:
— 26 ноября 1906 года. Сейчас час ночи. Скончалась Маша. Странное дело, я не испытывал ни ужаса, ни страха, ни сознания совершавшегося чего-то исключительного, ни даже жалости, горя. Я как будто считал нужным вызвать в себе особенное чувство умиления, горя и вызвал его, но в глубине души я был покоен… Да, это событие в области телесной, и потому безразличное. Смотрел я все время на нее, когда она умирала, удивительно спокойно. Для меня она была раскрывающееся перед моим раскрыванием существом. Я следил за его раскрыванием, и оно радостно было мне. Но вот раскрывание это в доступной мне области прекратилось, то есть мне перестало быть видно это раскрывание; но то, что раскрывалось, то есть. Где? Когда? Это вопросы, относящиеся к процессу раскрывания здесь и не могущие быть отнесены к истинной — внепространственной и вневременной — жизни.
И впоследствии, вспоминая ее:
— Живу и часто вспоминаю последние минуты Маши (не хочется называть ее Машей, так не идет это простое имя к тому существу, которое ушло от меня). Она сидит обложенная подушками, я держу ее худую и милую руку и чувствую, как уходит жизнь, как она уходит. Эти четверть часа одно из самых важных, значительных времен моей жизни…
XX
«Чего я тоскую, чего боюсь? — Меня, неслышно отвечает голос смерти. Я тут. — Мороз подрал мне по коже. Да, смерти. Она придет, она — вот она, а ее не должно быть».
И вот вся жизнь отдается на приобретение наиболее полного чувства, что не только «ее не должно быть», но что и нет ее.
Как так нет? На этот вопрос был ответ даже и тогда, — ночью в Арзамасе.
«Кажется, что смерти страшно, а вспомнишь, подумаешь о жизни, то умирающей жизни страшно».
В ту ночь он чувствовал: «Я надоел себе, несносен, мучителен себе». Но какой «я»? Такой, какой жил жизнью «умирающей», а не вечно живущей, внепространственной, вневременной. Он был в отчаянии: «Не могу уйти от себя!» От какого «себя»? От временного и телесного. А уйти, «освободиться» было необходимо: иначе «ужас — красный, белый, квадратный», иначе «злоба на себя и на то, что меня сделало», то есть «злоба» на самого творца, давшего это временное и телесное существование, которое без преодоления «подчинения», коему в той или иной мере подвержены все земные существа, без стремления к «освобождению», без все растущего чувства возврата к творцу, близости и единства с ним и без радости ощущения его благой воли, коей во всем надо подчиняться без всякого мудрствования и прекословия, есть непременно злоба, ужас, смерть, «умирающая жизнь».
И вот начинается уже непрестанная борьба с этой «умирающей жизнью».
— Учение церкви о бессмертности личной жизни навеки закрепляет личность… А Христос звал жить не для своей личности…
Это писалось в пору «Исповеди» и «В чем моя вера». И, отмечая эту пору, Маклаков говорит:
— В этих двух книгах — вся сущность толстовского учения… Церковь отрицает конечность человеческой жизни, верит в загробную, то есть бесконечную жизнь. А Толстой искал смысла той жизни, которая кончается смертью, ибо, как человек неверующий, он в смерти видел полный конец. Искал и нашел: вся беда в том, что я жил дурно, сказал он себе; жизнь, кончающаяся смертью, обретает смысл только при исполнении двух заповедей: не противиться злому и живи для ближнего, а не для своей личности…
И Маклаков утверждает:
— «В чем моя вера» есть завершение мировоззрения Толстого…
«Завершение»! Маклаков точно и в глаза никогда не видал последующих толстовских записей.
«Толстой, как человек неверующий, видел в смерти полный конец». На чем основано это утверждение? И на том, что «сам Толстой говорил мне не раз», и на том, думаю, что Толстой писал, например, так:
— Будущая жизнь — бессмыслица…
Это как будто совершенно подкрепляет утверждение Маклакова. Но чем кончена эта фраза о будущей жизни, — как читается она полностью?
— Будущая жизнь — бессмыслица: жизнь вневременна.
И что еще писал Толстой в эту же пору?
— Мы истинно живем ни в прошлом и ни в будущем, которых нет, а только в настоящем: пространство и время — условность.
— Встретился на дороге с сумасшедшим. Прощаясь с ним, говорю: ну, прощай, на том свете увидимся. А он мне: какой такой тот свет? Свет один. — Это мне очень понравилось! Он «не верил в бессмертие»? Но в какое? — Как ни желательно бессмертие души, его нет и не может быть, потому что нет души, есть только сознание Вечного (бога).
— Смерть есть прекращение, изменение той формы сознания, которая выражалась в моем человеческом существе. Прекращается сознание, но то, что сознавало, неизменно, потому что вне времени и пространства… Если есть бессмертие, то только в безличности… Божеское начало опять проявится в личности, но это будет уже не та личность. Какая? Где? Как? Это дело божье.
— Чтобы верить в бессмертие, надо жить бессмертной жизнью здесь.
— Смерть есть перенесение себя из жизни мирской (то есть временной) в жизнь вечную здесь, теперь, которое я (уже) испытываю.
Что значит «смерть» в этой фразе? Есть ли это то, что обычно называется смертью и что он и сам разумел когда-то под этим словом? Уже совсем не то. Это живой и радостный возврат из земного, временного, пространственного в неземное, вечное, беспредельное, в лоно Хозяина и Отца, бытие которого совершенно несомненно.
Алданов начинает свою книгу о Толстом известной цитатой из Канта: «Две вещи наполняют мой дух вечно новым и все большим благоговением — звездное небо надо мной, нравственный закон во мне». Алданов говорит, что если разделить эту формулу, выражающую идею совершенного гармонического человека, на две части, то нужно будет отнести первую часть к язычнику Гете, а вторую к христианину Толстому. Для Толстого, говорит Алданов, существует только нравственный закон: das ewig Eine [22], которому всю жизнь «удивлялся» Гете, это «звездное небо» Канта, в толстовстве не имеет места.
Чем же доказывает Алданов свою мысль? «Толстой говорит о науке не как философ, а как полемист… Для Толстого „туманные пятна“, „спектральный анализ звезд“, „химический состав Млечного Пути“ — никому не нужный профессорский вздор, равно как вздор и вся „научная наука“, как он выражался, противопоставляя такой науке науку, „только действительно нужную людям“, то есть практическую и улучшающую жизнь людей». Но ведь «звездное небо» могло возбуждать в Толстом и другие мысли и чувства, ничуть не связанные с его презрением к профессорам, занятым изучением химического состава Млечного Пути. И Алданов сам подтверждает это — тем, что говорит далее. Он приводит одну из причин вражды Толстого к «научной науке»: «выдумали, говорит Толстой, приборы для акциза, для нужников, а прялка, ткацкий бабий станок, соха все такие же, как были при Рюрике»; но сам же спрашивает далее: «тут ли, однако, надо искать настоящую причину антипатии Толстого к науке?» — и отвечает: Толстой приписывал себе невежество, а меж тем «был одним из наиболее разносторонне ученых людей нашего времени, только его универсально-анархический ум так же мало признавал суверенитет науки, как суверенитет государственной власти». Почему же так мало признавал? Тут Алданов сам же говорит, что потому, что для преодоления науки Толстой решился привлечь себе на помощь «точку зрения вечности». «Вы изобрели противодифтеритную сыворотку, вылечили ребенка? — говорит он. — Ну, а дальше что?» Он обращался когда-то к Мопассану с вопросом: «Зачем все это?» — разумея под «всем этим» красоту и любовь в понимании французского писателя, и отвечал: «Ведь это хорошо было бы, если бы можно было остановить жизнь. А она идет. А что такое значит: идет жизнь? Идет жизнь — значит: волосы падают, седеют, зубы портятся, запах изо рта, морщины… Где же то, чему я служил? Где же красота? А она — все. А нет ее — ничего нет», — говорил Толстой, становясь на точку зрения мопассанов. — «Нет жизни. Но мало того, что нет жизни в том, в чем казалась жизнь, — сам начинаешь уходить из нее, сам стареешь, дуреешь, разлагаешься, другие на твоих глазах выхватывают у тебя те наслаждения, в которых было все благо жизни». Как же связать с этой выпиской Алдановым такой цитаты из Толстого с его, Алданова, замечанием, что «Толстой говорит о науке не как философ, а как полемист»? И что же такое «точка зрения вечности», как не «звездное небо надо мною»? Выписав слова Толстого, обращенные к Мопассану, Алданов замечает: «О том, в чем видел Мопассан наслаждения, Толстой говорил со скорбным презрением состарившегося эллина». И дальше: «С точки зрения вечности отнюдь не более прочно все, что противопоставлено науке. Где дует ветер вечности, там любое человеческое построение рассыпается, как карточный дом, и само толстовство в первую очередь. Le silence eternel de ces espaces infins m'effraye [23], - как сказал Паскаль». Но, возражу я Алданову, «ces espaces» ведь и есть «звездное небо». Правильно, что перед ними «рассыпается всякое человеческое построение». Только почему и само «толстовство»? Все дело в том, как понимать Толстого. Толстой от ужаса перед «ces espaces» все-таки спасся. Чем? Тем, чем «состарившийся эллин» не спасся бы. В том-то и дело, что Толстой никогда не был «эллином».