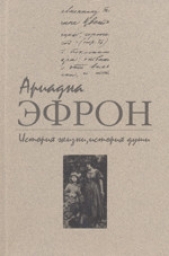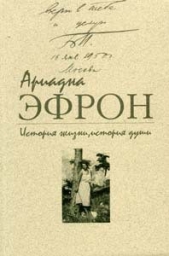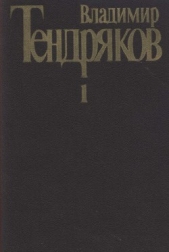История жизни, история души. Том 3

История жизни, история души. Том 3 читать книгу онлайн
Трехтомник наиболее полно представляет эпистолярное и литературное наследие Ариадны Сергеевны Эфрон: письма, воспоминания, прозу, устные рассказы, стихотворения и стихотворные переводы. Издание иллюстрировано фотографиями и авторскими работами.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Так, по первоначальному плану, цикл «Сивилла», осуществившийся в трех стихотворениях, должен был состоять из девяти; предполагавшееся содержание пятого и шестого: «Сивилла, не помнящая (себя)» и «Сивилла, не помнящая (других)» естественно перелилось — из мифологической Греции в сказочную Россию — во вторую часть поэмы «Молодец», превратившись в зачарованное беспамятство Маруси, героини поэмы. (Работа над «Молодцем», продолжающим линию «русских» цветаевских поэм, была начата в Москве, накануне отъезда, а завершена в Горних Мокропсах, в течение двух, не перебитых ни одним стихотворением, последних месяцев 1922 года.)
Попутно тема Сивиллы родила - или вместила в себя - близлежащие: уходящей молодости, седых волос («значит, бог в мои двери -раз дом сгорел!»52, где бог — всё тот же неизменный Феб, бог бессмертного вдохновения и призвания, сжигающий смертное своё обиталище — плоть «прорицательницы»). Отблеск Сивиллиного «костра под треножником» лёг — всё в одной и той же тетради — и на цикл «Деревья», и на многие иные стихотворения.
Что до самого Молодца, обряженного в кумачовую рубаху, действующего в окружении русской сказочной завораживающей жути, то не разночтение ли он и не инако ли толкование незримого, но главенствующего героя «Сивиллы», не спешившийся ли герой поэмы «На Красном Коне», отнимающий у любящей и любимой всё дорогое, но бренное — вплоть до жизни! — во имя неумирающего, вечного? Даже концы обеих поэм, уносящие, возносящие героиню в синюю, полыхающую твердь поэзии, — родственны:
...Доколе меня Не умчит в лазурь На красном коне —
Мой Гений!
(«На Красном Коне»)
...Зной - в зной,
Хлынь — в хлынь!
До-мой,
В огнь синь.
(«Молодец»)
Всегда поражавшее меня свойство Марининых лирических тетрадей (в их числе и этой, первой чешской, переплетённой в полосатый коленкор, с Серёжиной дарственной надписью): сквозь их страницы просвечивают творчески преображённые календарные листки давно прошедших лет с их ничем не примечательными повседневностями, та растворившаяся в небытии реальность, обыденность, которая столь часто служила причиной возникновения СТОЛЬ отвлечённых ОТ обы- Марина Цветаева. Чехия, 1923 денности произведений.

Листкам календаря уцелевших повседневностей могут уподобиться некоторые записи моих детских дневников; по ним легко прослеживаются непосредственные первопричины иных цветаевских стихотворений, вернее то, как случайность первопричин выводила на поверхность листа Маринину мысль, непрестанно подспудно работавшую в ней. Вот, к примеру, обыкновенное описание обыкновенной прогулки:
Мы с Мариной - на реке. По воде идут неизвестно куда полуволны, полурябь. Приближаемся к пенным порожкам, проходим под мостом, где гремит эхо. Сырая тропинка между ив, как коридор... Тихо и осторожно, с камня на камень, подбираемся к какому-то дереву, которое Марина заранее уже любит. Вот оно близится, и через две минуты мы сидим на пригорке под ним, на его перекрученных иссохших седых корнях. Я хочу поговорить с Мариной, но она говорит: «Помолчи, дай послушать воду!» Слушая, мама выкурила две папиросы, полюбовалась на реку, записала отрывки стихов в маленькую тетрадку, а на обратном пути мы собирали ежевику и видели пустую змеиную шкурку...
А стихи, напетые в тот день Марине «полуволнами, полурябью» маленькой уютной Бероунки, это: «Но тесна вдвоём даже радость утр», с их заклинающим рефреном: «Над источником слушай-слушай, Адам, что проточные жилы рек — берегам... Берегись!..»53
Вот запись о «развлекательной» нашей поездке в Прагу, в гости к Серёже, с посещением театра (смотрели «Сверчок на печи» Диккенса), а до «Сверчка» гуляли в окрестностях «Свободарны» по унылому заводскому району (без готики и барокко!), пили кофе с рогаликами и «пивными» сырками в рабочей каварне (кофейной), говорили, шутили, смеялись, заходили в магазины, пытаясь купить необходимую в нашем хозяйстве сковороду, не зная, как она по-чешски называется, а после «Сверчка» ночевали в свободной кабинке Серёжиного общежития и уехали рано, чтобы дать Серёже доготовиться к экзаменам, вот-вот начинавшимся, — всё просто и мило, мило и просто, разве что «Сверчок» чуть празднично приподнял поверхность данных полутора дней... Но что впитала в себя из этой милоты и простоты Маринина тетрадь?
Весь набиравший силу разбег цикла «Деревья» остановлен в ней на лету вклинившейся темой «Заводских», антитемой, по сути, «Деревьев»: «Стоят в чернорабочей хмури закопчённые корпуса...»54 и «У последней, последней из всех застав...»55.
Да, вот чем схватила Марину задушу «Злата Прага»: рабочей своей окраиной, заводскими трубами и корпусами, изматывающей жалобой фабричного гудка, и — угаданными так, словно своими глазами увиденными, на собственные плечи взваленными, судьбами «сирых и малых, злых — и правых во зле!»56. А всего-то и было, что прошлась, казалось бы, беспечально, взад-вперед по этим улицам, не более чем угрюмым на вид...
Сама фабричная суть окраин капиталистических городов оказалась Марине внове; старая Москва была небогата фабриками и не ими славилась. Только Запад явил Марине несовместимость взаимосвязей городских пейзажей — и не только пейзажей... Ибо в эти же дни она пишет свою «Хвалу богатым» — сомнительный мадригал, посвященный с вершин всего богатства собственной нищеты великой нищете и тщете богатства: «...И за то, что в учетах, в скуках, в позолотах, в зевотах, в ватах, вот меня — наглеца, не купят — утверждаю: люблю богатых!..»57
Сквозь идущее в том же «окраинном» потоке стихотворение: «Спаси Господи, дым!» просвечивают и реальность нашего переезда — из одной деревни и хаты в другую, и — воспоминание о пражской «заставе»: именно так вот городская беднота перебирается с квартиры на квартиру, вернее: из трущобы в трущобу. Сколько будущих наших смен места жительства в парижских пригородах предвосхищает это стихо-творение!
А о наших деревенских, чешских переездах пусть расскажут всё те же выписки из детского дневника...
ПЕРЕЕЗД НА ЧЕРДАК
Вот приходит к нам хозяйка и за ней целый хвост детей и муж. Великолепный рыжий пес «пан Греко» лежит на наших
вещах, раскинув лапы. Хозяйка в ужасе:

Мирина Цветаева, Сергеи Эфрон и
4.IH
Чехия
,
ок. 1924
«Кто допустил того пса до покоев?» Я-то знаю, кто, я вывожу собаку. Мы укладываем все вещи в тачку и очень рады, что её повезет хозяин и что не самим перетаскивать в руках. Я надеваю пальто, кладу во все карманы всякие отребья, чтобы и это не досталось хозяевам, прощаемся со всеми и уходим. Хозяин везёт тачку, а мы торжественно плетёмся рядом: Марина с лампой [«С той же лампою-вплоть, - лампой ни-щенств, студенчеств, окраин...»58] и спиртом для примуса, а я с керосином и кофейником. Идём, идём, наконец заворачиваем в уличку, где страшная грязь. Доходим до лавки, на которой написано имя хозяйки, «Марианна Саскова», поворачиваем к чёрному ходу, Марина идёт в лавку разменять деньги за перевоз, и наш новый хозяин вместе со старым помогает тащить вещи наверх. Комната прекрасная. Косое окно, довольно темно. Два стола, две кровати, три стула. Есть даже помойное ведро.
...Теперь мы тут живём. Марина впускает в наше косое окно и солнце и луну. Возле этого окна она всегда сидит и пишет, если не стоит возле примуса, разогревая, варя. В окно видны самые разноцветные деревья, и тёмно-зелёные, и красноватые, и коричневые. Они растут на горе, ещё на горе живут две хозяйские кошки, чёрная и серая. Их совсем невозможно поймать...
Это - конец сентября. А в первых числах ноября - опять переезжаем.
Накануне мы с Мариной, по дороге в лес, прошли мимо уютного домика с жёлтой окраской, зелёной калиточкой. Я говорю маме: — Ах, как бы я хотела быть маленькой [мне — десять лет!], жить у дедушки с бабушкой вот в этом домике! А на другой день, вечером, приезжает папа и зовёт Марину смотреть комнату. Когда они возвратились, я вдосталь наслышалась рассказов о новой комнате: низенькая, с тремя оконцами, изразцовой печкой и т. д.