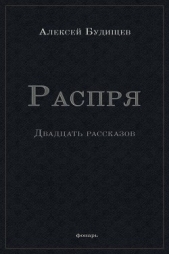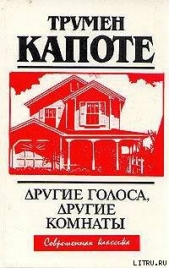Распря с веком. В два голоса
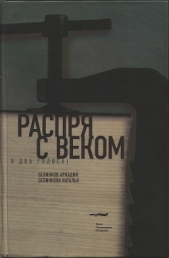
Распря с веком. В два голоса читать книгу онлайн
«Распря с веком» — свидетельство двух человек о творческой жизни писателя Аркадия Белинкова (1921–1970) в советской России и за рубежом. О поворотах в его судьбе: аресте, эмиграции, ранней смерти.
Фрагментами своих опубликованных и неопубликованных книг, письмами и черновиками Аркадий Белинков сам повествует о времени, жертвой и судьей которого он был.
Наталья Белинкова, прибегая к архивным документам и своим воспоминаниям, рассказывает о самоотверженной борьбе писателя за публикацию своих произведений и о его сложных взаимоотношениях с выдающимися людьми нашего недавнего прошлого: Анной Ахматовой, Корнеем Чуковским, Виктором Шкловским и другими.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Это было первое слово, на которое он обратил внимание, и с этого слова был начат знаменитый словарь.
В Николаеве начались первые литературные неприятности Даля: он написал ядовитые стихи об одной особе, которой весьма покровительствовал его начальник адмирал Грейг. За «пасквиль» автор поплатился тотчас же. С юга ему пришлось отправляться на север.
Аркадий Белинков
Письма однодельцу
26.1.1957. Москва
Дорогой Генрих!
Позавчера я приехал в Москву и прочел Вашу телеграмму. Благодарю Вас. Желаю Вам добра, успеха и возвращения. По телефону разговаривал с Вашей мамой. В ближайшие дни заеду к ней.
Настроение у нас превосходное. Мы по преимуществу поднимаем бокалы и произносим тосты за наших общих знакомых, которых еще недавно оплевывали. Возрождаем традицию и идем от победы к победе.
Писать мне ужасно не хочется, и я все время под разными предлогами отбояриваюсь сам от себя. Книжка о Тынянове, которую я делаю, радости и счастья мне не приносит. И вообще по части радости и счастья планета наша мало оборудована…
Будучи скептиком и картезианцем, я никогда, впрочем, на радость и счастье особенно не рассчитывал. Но у меня были надежды на то, что несколько месяцев по возвращении можно будет пить счастье бытия, не размышляя над некоторыми тезисами социологии Планеты. Получилось же несколько иначе. Но уже здесь виноват я сам. Из всех предметов домашнего обихода я начал ценить по преимуществу веревку.
Если найти цифровой эквивалент любого из несчастий, постигших нас, а потом подобный же эквивалент подобного же счастья и сравнить эквиваленты, то выяснится, что горе переосиливает радость. Казалось бы, счастье освобождения должно быть равным по значению и роли в жизни беде ареста. Ничуть не бывало. Это счастье испарилось за неделю, не оставив воспоминаний и радости. <…>
6.3.57. Москва
Дорогой Генрих!
Ваше письмо от 21.2 получил вчера. Благодарю.
Меня огорчило то, что Вы не отвечаете на мою телеграмму. <…> Очевидно, из письма мамы Вы знаете, в чем дело. Ее хлопоты за Вас привели к юристу по спец. делам, который заявил, что для написания юридически аргументированной жалобы необходимо Ваше, желательно особенно подробное, заявление. <…> Независимо от того, чем все это кончится, должен сказать, что время для розовых надежд прошло. Но речь идет о матери, которая твердо убеждена в том, что обязана что-то делать. Поэтому заявление Вы все-таки пришлите.
Надежд у Вас мало. Мы не сильно завидуем Вам. Но и Вы, пожалуйста, нам не завидуйте. Мало у нас веселья.
Что касается меня, то я медленно и убежденно умираю. Причин для этого достаточно, и, умерев, я не допущу ошибки.
Для нас, людей с испорченной навсегда общественной жизнью, есть только один выход-спасение: семья. Когда целый день отбиваешься от всяческих прозаиков и поэтов, то возникает острая потребность порыдать на дорогой груди. Увы, случается иногда и так, что вместо дорогой груди тебе всучивают камень. Ситуация банальная и подробно описанная в известном стихотворении Лермонтова. Ничего у нас не выйдет и с семьей.<…>
Литературные дела печальны и, по моему глубокому убеждению, безнадежны. В Литературном институте засилие Коваленко и Захарченко [59]. Сельвинский читает курс стиха. Он стал очень мил и мягок. События последних десяти лет оставили на нем неизгладимый отпечаток. Он болен и уже почти тих. Недавно вышел его двухтомник с «Уляляевщиной», сильно измененной и изрядно испорченной. <…> Если бы у меня были дети и <…> эмоционально устроенный дом, я был бы, наверное, очень счастлив. У меня нет такого дома. И, вероятно, никогда не будет. Книгу же я пишу с большим трудом, а временами и с небольшой охотой. Время идет. Книг мы не написали. Счастья не было. И, несомненно, уже не будет. Вам предстоит еще радость возвращения. Она придет, и… и скоро от нее тоже ничего не останется. У меня радость приезда была начисто испорчена некоторыми обстоятельствами личного порядка. Так что я не пережил и этого счастья, положенного, как кровная пайка, на которую никому не разрешено посягать.
С глубоким уважением приветствую Вас.
Обязательно и поскорей пришлите копию жалобы.
25.6.57.
Дорогой Генрих!
Вчера я был у Вашей матери. Она прочла мне Ваше письмо. Больше всего меня удивили Ваши сомнения по части отъезда с Севера. Очень может быть, что в Москве Вам действительно не удастся прописаться. Но лучше жить за 100 километров от Москвы, чем за 8 тысяч. Что касается работы, то и по этой части не следует предаваться резиньяциям: лучше работать даже бухгалтером под Москвой, чем в Ветреном. Вам при всех обстоятельствах необходимо получить диплом. Это не очень сложно. Свой диплом я получил несколько дней назад. Для этого мне пришлось сдать несколько зачетов и экзаменов, т. к. программа увеличена (сейчас в институте 5 курсов), и написать дипломную работу. <…> Единственно, что по-настоящему серьезно, — это написать дипломную работу. Мы с Вами уже не можем отделаться студенческим пустяком. Работа должна быть интересной и такой, которую можно было бы предложить издательству. Вероятно, у Вас такая работа есть, а если нет, то достаточно сделано для того, чтобы она появилась. Институт нужно кончить. Сделать это не трудно. Считаю, что Вы обязаны это сделать.
Хлопоты по Вашему делу считаю в значительной степени запоздавшими. Матери Вашей об этом не говорите, Вас же обольщать не стоит. <…> Мои дела неопределенны. Пишу книжку о Тынянове. Написанная часть вызвала оживление.
По преимуществу, нравится. Буду пытаться ее напечатать. Плохо, что некогда писать. Личные дела мои плохи.
Желаю Вам счастья и возвращения.
22.10.58.
<…> Я по-прежнему уверен, что уехали Вы напрасно и что главное Ваше дело — писать книги. Мы знакомы с Вами без малого 20 лет, и все это время я абсолютно твердо убежден, что Вы самый талантливый человек из всех нас. Ваше мнение о литературе для меня всегда было не только интересным, но и таким, которое вносило изрядные коррекции в мое собственное мнение. Самая большая Ваша ошибка в литературе заключается в том, что Вы ею не занимаетесь.
У меня нет никаких иллюзий в рассуждении своего дарования, но все-таки я пишу.
Пишу много, а написал мало. Но книгу все-таки заканчиваю. До объема, указанного в договоре, осталось несколько страниц. Правда, это еще не конец, потому что, конечно, в объем, указанный в договоре, не уложился. С месяц назад получил рецензию на 2 п.л., поданных в издательство в качестве заявочного материала. Рецензия, по-моему, не очень квалифицированная, но очень лестная. Главное в ней то, что, «издавая книгу А. В. Белинкова, издательство восполнит пробел». Я очень рад восполнить пробел издательства. Считаю, что у него (издательства), несмотря на это, останется еще много пробелов, и очень хотел бы, чтобы восполнили их Вы.
Знаете, дорогой Генрих, за что я больше всего благодарен людям, тепло встретившим меня после возвращения? За то, что они меня методически пилили, точили, сверлили и занимались другим столярным промыслом, убеждая в необходимости писать не только в стол. Если моя книга не выйдет, это, конечно, будет большим ударом. Но, несмотря на это, она принесла мне очень большую пользу и я ей от души благодарен. <…>
25–27.1.59
Дорогой Генрих!
Вчера мы получили Ваше письмо. Письмо Вы написали грустное, потому что Вы не лакировщик и, не будучи таковым, писали про жизнь, какая она есть.
А жизнь наша не оперетта, и мы не теноры в ней.
Но главное все-таки в Вашем письме — это не скверные и непоправимые обстоятельства, а все-таки скверное, но поправимое настроение.
Ваше письмо тенденциозно и потому ненаучно. <….>