Сципион Африканский
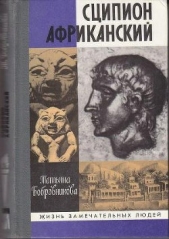
Сципион Африканский читать книгу онлайн
Известно, что победа, которую одержал Сципион Старший над Ганнибалом, ознаменовала закат Карфагена и положила начало восхождению Рима на вершину власти и могущества. Сципион Старший как полководец ни в чем не уступает Александру Македонскому и Гаю Юлию Цезарю, а как человек, пожалуй, даже выше их. Победив Ганнибала, он не потребовал его головы и не разрушил Карфагена. Он не мстил убийцам своего отца, а один из них, нумидийский царь Масинисса, стал его преданным другом. У него не было предрассудков. Он любил тогда уже слабую Грецию и преклонялся перед ее культурой, что было не к лицу римлянину его эпохи. Он мог получить неограниченную власть над Римом, но не захотел власти.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Однако открытое столкновение на этот раз не состоялось. Отцы были очень недовольны дерзким консулом, но боялись, что он приведет свою угрозу в исполнение. Им было ясно, что тут будет не так, как с триумфом: Сципион будет бороться до конца. Им пришлось идти на уступки. Начались долгие совещания и переговоры. В конце концов сенат предложил Публию такой вариант: он получает провинцией не Африку, а Сицилию. Оттуда он, если хочет, может переправиться в Африку. Они ему ничего не запрещают и ничего не дают. Ни денег, ни флота, ни армии он не получит. Но если кто-нибудь пойдет за ним добровольно или если он найдет возможным взять с собой штрафной батальон из Сицилии, сенат ему мешать не станет ( Liv., XXVIII, 45–46). «Ему разрешили взять только тех, кто сам захочет, если таковые найдутся, — пишет Аппиан, — и воинов из Сицилии и денег ему не дали, разве кто пожелал бы из дружбы помочь Сципиону» ( Арр. Lyb., 28–29).
«Другой на месте Сципиона, вероятно, заявил бы, — говорит Моммзен, — что африканскую экспедицию или следует предпринимать с иными средствами, или не следует предпринимать вовсе. Но он был так самоуверен, что соглашался на всякое условие, лишь бы только добиться желанного назначения главнокомандующим». [71]Конечно, он мог бы привести свою угрозу в исполнение и апеллировать к народу. Но роль народного вожака внушала ему непреодолимое отвращение, вся его древняя кровь аристократа возмущалась против этого. И он был слишком горд, чтобы просить о чем-то отцов и интриговать в сенате. Он принял условие.
Казалось, сенат сделал уже все, чтобы провалить экспедицию. Но Фабий не унимался. «Он обрушился на Сципиона с другой стороны, — пишет Плутарх, — он удерживал и отговаривал молодых людей, желавших отправиться в доход, кричал в сенате и в народном собрании, что Сципион не просто бежит от Ганнибала, но уводит из Италии всю оставшуюся у Рима силу, в своекорыстных целях соблазняя молодежь пустыми надеждами и побуждая бросить на произвол судьбы родителей, жен и отечество, у ворот которого стоит неодолимый враг. Своими речами он запугал римлян» ( Plut. Fab., 25).
То, что теперь называлось сицилийским войском, которое разрешили взять Сципиону, были каннские беглецы, которых сам сенат объявил преступниками и которым запретил ступать на землю Италии. Из них едва можно было сформировать два легиона, притом это были люди, уже десять лет не бравшиеся за оружие, озлобленные всеобщим презрением. «Так пренебрежительно отнеслись вначале римляне к войне, которую немного спустя заслуженно стали почитать самой великой и славной» ( Арр. Lyb., 29).
ПРЕКРАСНЫЙ ОСТРОВ
Разрешив все вопросы с сенатом, консул Сципион уехал в Сиракузы. «Вы не раз слышали, что Сиракузы — самый большой из греческих городов и самый прекрасный в мире; оно на самом деле так», — пишет Цицерон. Он не устает восхищаться стройной планировкой города, поразительной красотой храмов, чудесными статуями и картинами. Одни только двери знаменитого сицилийского храма привлекали толпы паломников со всего света. «Трудно перечислить, сколько греков писало о их красоте» ( Cic. Verr., IV, 117–124). Видимо, сицилийские тираны напоминали великолепных и пышных правителей Флоренции и, подобно этим последним, не жалели усилий, чтобы превратить свой город в прекраснейший дворец. Замечательная библиотека и огромный театр были гордостью Сиракуз.
Удивительная красота этого города поражала даже эллинов, привыкших к утонченной прелести, но после Рима с кривыми улочками и жалкими уродливыми домами он производил впечатление какого-то волшебного сна. И жизнь Сиракуз резко отличалась от римской.
На первый взгляд жизнь эта казалась сплошным веселым праздником, где можно было отдохнуть душой после суровых римских будней. Нарядные толпы людей с утра устремлялись на улицы и окружали какого-нибудь философа с длинной бородой, в потертом плаще, который рассказывал о природе богов. Юноши жадно внимали ему, засыпали вопросами, брели за ним по палящему солнцу. Но вот раздавался зов с палестры, и все бежали в гимнасий упражняться, ибо «жадная, благоговейная влюбленность в жизнь», [72]свойственная эллинам, заставляла их горячо восхищаться красотой тела. А по праздникам устраивали великолепные театральные представления. Но за всей этой легкомысленной радостью скрывалась глубочайшая мудрость. Пребывание в течение хотя бы нескольких дней в греческом городе было равносильно обучению в университете. Эллада, даже покоренная, сохранила какое-то волшебное обаяние. Под власть ее чар подпадали великие цари и полководцы, мало того, целые народы и племена.
Вот в такую страну и к таким людям попал внезапно Публий Сципион. Он был поражен, восхищен и полностью отдался вихрю стихии. Многие римляне его времени и последующих веков тоже глубоко восхищались Грецией. Но они не давали чувству увлечь себя и сохраняли вид холодного и презрительного равнодушия. Прекрасно зная греческий, они делали вид, что его не понимают, и упорно объяснялись с эллинами через переводчика. И во всем прочем они не давали грекам заметить, что их настолько интересует греческая культура, чтобы они когда-нибудь тратили время на ее изучение. Цицерон рассказывает о двух знаменитых ораторах — Люции Крассе и Антонии, блиставших в дни его ранней юности. Обычно считалось, что они совершенно чужды эллинской культуре. Цицерон, однако, будучи еще мальчиком, подолгу гостил в доме Красса и заметил, что по-гречески оратор говорит так, будто никогда не знал никакого другого языка, что он принимает у себя ученых греков и подчас охотно обсуждает с ними сложные и отвлеченные философские вопросы. Наведя справки, Цицерон узнал, что и Антоний, будучи в Афинах, вел беседы с учеными мужами и иногда мог блеснуть совершенно неожиданными для него знаниями.
Почему же об обоих ораторах сложилось такое мнение? Цицерон объясняет это так: «Красс не скрывал, что он учился, но старался показать, что учением этим не дорожит и что здравый смысл соотечественников ставит выше учености греков; а Антоний полагал, что у такой публики, как наша, его речь встретит больше доверия, если будут думать, что он вовсе никогда не учился. Таким образом, и тот и другой считали, что впечатление будет сильнее, если делать вид, что первый не ценит греков, а второй их даже не знает» ( Cic. De or., II, 4). Именно так должен был поступать римлянин, дороживший своей репутацией. К подобным уловкам часто прибегал и сам Цицерон. Когда по молодости лет он неловко выставил напоказ свое восхищение эллинами, он стал часто слышать, как за его спиной с насмешкой говорили: «Грек!» и «Ученый!», — «распространенные среди римской черни бранные слова» ( Plut. Cic., 5). И потом всегда умело скрывал свое восхищение перед греческой культурой.
Вот почему римлянин, открыто проявлявший интерес к эллинам, бросал вызов общественному мнению. Но Публий Корнелий был так горд, что не мог унизиться до притворства. И вскоре в Риме с возмущением заговорили о его непристойном поведении. Консул римского народа должен был важно шествовать по улицам в военном плаще. А впереди шагали и расчищали ему дорогу ликторы со связками прутьев и секирами. Вид его должен был быть неприступен, поступь величава, обеды же должны были отличаться чинностью и тишиной ( Cic. Verr., V, 28). Что же сказать о консуле, который один, без всякой охраны, без приличествующей его сану свиты, бегает по городу в греческом плаще и сандалиях, беседует с философами, с утра до ночи пропадает в театрах и даже — о ужас! — занимается гимнастикой в палестре ( Liv., XXIX, 19; Plut. Cat. mai., 3). Чтобы понять, какое впечатление на римлян должны были производить рассказы о поведении их молодого консула, достаточно вспомнить, что у Цицерона в речи против наместника Сицилии Верреса в одном ряду с обвинениями в чудовищных злодеяниях — убийствах, вымогательствах, грабежах, попрании всех законов божеских и человеческих — стоит: «Ты в звании наместника провинции [73]показывался людям в тунике и пурпурном плаще», то есть в греческой одежде ( Cic. Verr., V, 137;ср. IV, 54; V, 31). Тацит приводит забавный рассказ, как Германик вызвал недовольство Тиберия тем, что попытался подражать Сципиону: «Он повсюду ходил без всякой стражи, в открытой обуви и таком же плаще, какой носили местные греки, подражая в этом Публию Сципиону, который, как мы знаем, сходным образом поступал в Сицилии, хотя война с карфагенянами была в полном разгаре» ( Тас. Ann., II, 59).


























