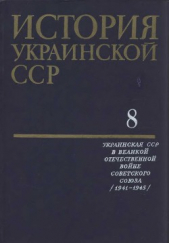Письма на волю
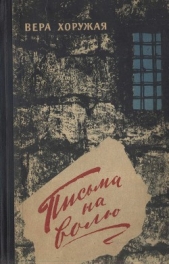
Письма на волю читать книгу онлайн
В 1930 году в издательстве «Молодая гвардия» вышла книга «Письма на волю».
Из соображений конспирации вместо имени и фамилии автора на обложке стояло: «Польская комсомолка».
Автором этих писем была Вера Хоружая, секретарь Центрального Комитета комсомола Западной Белоруссии, несколько лет томившаяся в польских тюрьмах.
Книга вызвала огромный интерес у читателей и быстро разошлась. Поэтому в 1931 году издательство выпустило второе издание.
Еще раз книга Веры Хоружей была издана в «Молодой гвардии» в 1957 году.
Теперь имя героической дочери белорусского народа стало известно многим читателям. В 1959 году в «Правде» были опубликованы ее записки, относящиеся к 1942 году, к тому времени, когда Хоружая, оставив двух малолетних детей, пошла защищать от врага свою любимую Родину. После этого интерес к жизни В. Хоружей возрос еще больше.
В настоящем издании собраны письма, статьи В. Хоружей и воспоминания о ней. В основу книги положен сборник «Славная дочь белорусского народа», подготовленный Институтом истории партии при Центральном Комитете Коммунистической партии Белоруссии и выпущенный государственным издательством БССР (составители H. С. Орехво и И. П. Ховратович).
В книге раскрыты имена и фамилии большинства лиц, которым адресовала свои письма из тюрем В. З. Хоружая. Расшифрованы также фамилии многих партийных и комсомольских работников Польши и Западной Белоруссии, которые в ряде писем, по конспиративным соображениям, помечались лишь начальными буквами.
Некоторые имена расшифровать не представилось возможным.
В отличие от указанного белорусского издания в данной книге помещен биографический очерк Б. Котельникова о жизни В. Хоружей.
Издательство «Молодая гвардия» выражает благодарность брату В. Хоружей Василию Захаровичу Хоружему, принявшему участие в подготовке издания для «Молодой гвардии».
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Летит время, мчится. Сижу уже шестой год. Не верится мне, никак не верится, что я уже шесть лет не видела свободы. Да вот ведь она — я еще живу ею, она еще даже не в прошлом, она — настоящее и… близкое будущее… Да, да, еще несколько усилий — и мы будем вместе… Мы изменились. Это ничего. Мы старые, прежние комсомольцы, мы — это мы.
Думаю об этом новом будущем, неизведанно прекрасном, и так живо, так близко встает прошлое. На днях вот, в тихую, мрачную ночь, после особенно горько тревожного дня мне с необычайной яркостью вспомнилось такое. Ранняя весна. Задумчивые розовато-голубые, прозрачные сумерки. Мы идем с тобой по тихой далекой улице. А нас окутывает, пронзает насквозь, пьянит и будоражит весенне-задорный, крепкий и веселый запах распускающихся тополей… Мы идем, хохочем, и над нами нестерпимо сильно пахнут тополя, ласково улыбаются голубые сумерки. Как хорошо!
А завтра — гражданская война, советы в Польше, советы в Германии, и еще и еще — ведь будет не революция, а волна революций… Мы будем еще бороться по-новому и по-старому, как когда-то, бороться и на фронтах и в тылу в атмосфере новых 18–20-х годов. Но ведь теперь есть СССР. Никогда не будет сказано достаточно об этом факте. Как же могуче засвидетельствует об этом будущее…
…………………………………………………
…Вернулись с прогулки, если ее можно так назвать. Я и Маруся [74] писали тебе когда-то про радость нашей встречи. А теперь вот я даже не вижу ее. Мы — на разных прогулках, можем увидеться только случайно или украдкой. Нет слов у меня, чтобы вылить все бешенство, всю необъятную злобу. Подумай только: после стольких лет очутиться под одной крышей и не иметь возможности даже взглянуть друг на друга. Но все это ерунда, на все надо уметь находить способ. Мы все-таки вместе, мы все-таки нераздельно едины. В те редкие часы, когда нам удавалось бывать друг у друга (мы никогда не сидели в одной камере), мы положительно утопали в радости видеться, говорить, в воспоминаниях, рассказах, мечтах.
Кроме того, мы задумали и даже приступили к исполнению очень интересной и тебя касающейся работы, пока не скажу какой… [75]
29 мая 1931 г.
Ему же.
Милый, славный мой друг! Я уже долго сижу, склонившись над этим листком, и думаю, думаю. Мне хорошо. Хорошо думать о тебе, о нас обоих вместе, о солнечном Союзе, о бурной вашей жизни, о делах, таких интересных и важных на всем широком свете. А привычные звуки — шаги, голоса и звяканье ключей на дворе, на коридоре как-то уходят вдаль, притихают… Ну да, это тюрьма. Тюрьма. Тюрьма. Но разве можно когда-нибудь констатировать это спокойно? О нет! Момент — и притихший, ушедший вдаль звук дернет душу сильно и больно. Я заглушаю его опять мыслями о «многозвучной (но не угрюмой, а торжествующей — тут я не соглашаюсь с Горьким) музыке жизни земной», и мне опять хорошо, мне все-таки хорошо. Ведь это только тюрьма.
Вспоминаю о том, что последний раз писала тебе в январе, а теперь уже конец мая. И мне немножко стыдно за это. Но мне и радостно в то же время: ведь ты не сердишься на меня, правда? Ведь ничего из-за этого не изменилось, ведь я и после года молчания, после многих лет разлуки могу писать тебе так, как будто мы вчера только расстались, ведь ни ты, ни я не измеряем нашей дружбы количеством посланных писем. И вот это именно чудесно, это хорошо! А от тебя последнее письмо я получила в марте. Вот оно передо мной. Перечитываю его снова с радостью, с волнением.
Воображаю, что за бешеная, стремительная у вас теперь работа, что за напор. Ведь это — последние месяцы третьего года, года решающего, переломного. В здешних газетах и экономических изданиях все больше о вас заметок, статей. Жадно набрасываешься на каждую из них, нетерпеливо шелушишь злобную, часто непроходимо глупую болтовню, чтобы добраться до зернышка правды. И зернышек, надо сказать, находишь все больше и больше — но разве столько, сколько хочется? Увы! Мечешься в неведении, в нестерпимо страстном желании знать, в уверенности, что все прекрасно, лучше, чем себе воображаешь (но как же, как?), и неизменно утешаешься мыслью, что все увижу, увижу.
А вот то, что привет Алексея Максимыча [76] до меня не дошел, — это поистине досадно, даже больше того. Но зато какие замечательно радостные вести о нем я услышала после.
Так как, дружище, еще не было времен прекраснее наших, как же хочется о них по крайней мере читать. Как тоскуешь по бодрым, мощным, радостным словам. В «Wiadomościach literackich» («Литературные вести») — органе литературных дегенератов — иногда прочтешь в хронике 2–3 строчки принужденной похвалы какой-нибудь новой поэме Саши Безыменского и загоришься. О, если бы прочесть! Но это так же недоступно, так же невозможно, как, например, увидеть самого Сашку и послушать его собственное чтение.
Иногда попадает в руки новая книжка, западная, конечно. Приступаю к чтению с напряженным интересом, хочу услышать биение сердца сегодняшнего дня. И что ж? На половине книжки злюсь, в конце — возмущаюсь. Что это за убожество мысли, что за анемичность чувств, что за ничтожность стремлений, бессилие жить и хотеть!
Возмущение мое не лишено злорадства, некоторой доли удовлетворения: хорошо, еще одно доказательство, наглядное и убедительное, еще один неотразимый факт «их» разложения. И я повторяю: так, так, выше носа не подпрыгнешь! Каковы времена, таковы и птицы, таковы и песни!
Ну, хочешь знать, что у меня еще за событие? Сижу в новой камере, с новой товаркой. В прежней камере я сидела целых два года (каков темп жизни, каково разнообразие!). И мне жаль было с ней расставаться. Там я видела из окна Вислу, сад, вдали — темно-синий лес, а близко — мои любимые три одинокие ели на пригорке. В сильный ветер они шумят протяжно и глухо, как целый бор. Сосновый бор — какое далекое это воспоминание.
А теперь в окно ко мне заглядывают кудрявые ветки старого клена. Вид из окна — тюремный двор, а за стеной — городская площадь, костел. Впечатления, как видишь, совсем иного порядка. Гудят и грохочут автобусы, шуршат изящные лимузины, беспрерывно звонят колокола, и часто медленно движутся торжественные католические процессии. Самое ожесточенное и преступное сердце должно умилиться при виде массы хоругвей, убранных цветами, образов, толп верующих, преклоняющих колени, длинной вереницы старушек, бережно несущих зажженные свечи, и главное — при виде легкой, воздушной стаи девочек, одетых во все белое. Старшие из них идут впереди, неся пальмовые ветви, а меньшие, идя с корзиночками, все вдруг грациозно сгибаются и стелют цветы под ноги шествующему под балдахином ксендзу. Запах ладана проникает даже в наши грешные камеры, и я ясно слышу латинские слова гимнов и молитв, то гремящие торжественно и грозно, то рокочущие ласково и умиленно…
Ну, что еще! Хватит обо мне! Ага, ты все с каждым разом усиленнее просишь написать правду про здоровье, главное про сердце. Ты сильно «отстал от жизни». Сердце давно перестало быть главным, уступило свое место легким. Ну так вот, несмотря на постоянную и особенно сильную по вечерам и на рассвете боль в пруди и в плечах, несмотря на кровохарканье, я (ну, поверь же, поверь) все ночи чувствую себя хорошо. Я вовсе не лежу, в последние недели даже не «прикладываюсь», не пропускаю прогулок. Я чувствую себя сильной, не устаю, почти не замечаю повышенной температуры, и болезнь вообще мне ни в чем не мешает. Я сама по себе, а она сама по себе. Ни следа болезненных, мрачных настроений, ни самочувствия больной. Я сильна (ох, если б можно приложить эту силу так, как хочется!), радостна и бодра. Ну какая же я больная? Вот тебе не «прикрашенный рассказ», чего ты так сильно не хочешь, а сущая, истинная правда. Будь поэтому совсем, совсем спокоен. Я и буду здорова. Стоит мне только ступить на землю, увидеть близко нашу лучезарную родину, и она меня тотчас исцелит. Стоит мне только взяться за работу, только развернуться, только дохнуть свободой (о, скорей бы, скорей это было), и тотчас забудутся, исчезнут все «объективные признаки» всяких там болезней. Надо жить, жить! Ведь каждое дуновение сегодняшнего ветра — это мощный призыв к жизни, это волна сил. А свобода ведь не только все ближе и ближе. Она уже близка!..