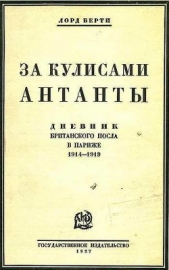Дневник

Дневник читать книгу онлайн
«Дневник» Элен Берр с предисловием будущего нобелевского лауреата Патрика Модиано был опубликован во Франции в 2008 г. и сразу стал литературным и общественным событием. Сегодня он переведен уже на тридцать языков мира. Элен Берр стали называть французской Анной Франк.
Весной 1942-го Элен 21 год. Она учится в Сорбонне, играет на скрипке, окружена родными и друзьями, радуется книге, которую получила в подарок от поэта Поля Валери, влюбляется. Но наступает день, когда нужно надеть желтую звезду. Исчезают знакомые. Ходят тревожные слухи о судьбе депортированных. Семья Берр может уехать, спастись, но они остаются: уехать — значит признать, что они чужие у себя на родине, и предать тех, кому некуда бежать. И утром 8 марта 1944 г. их арестовывают. В лагерях Элен проведет почти год и погибнет за несколько дней до освобождения лагеря Берген-Бельзен.
«Элен Берр… знала, что прямо тут, вокруг страдают люди и творятся зверства, но понимала, что сказать об этом… невозможно, — пишет Патрик Модиано. — И потому писала дневник. Догадывалась ли она, что через много лет он будет прочитан? Или боялась, что ее голос заглохнет так же, как голоса миллионов бесследно исчезнувших жертв? Открывая эту книгу, хорошо бы помолчать, прислушаться к голосу Элен Берр и пойти с нею рядом, Этот голос и эта душа останутся с нами на всю жизнь».
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Эта неприязнь никак не связана с тем, что имеет отношение лично ко мне, я и не думала сейчас о гонениях на евреев.
Но, когда я зашла под аркады улицы, Риволи и почувствовала, как сильны узы глубокого родства, взаимной любви и понимания, которые связывают меня с этими камнями, небом, со всей историей Парижа, во мне вскипело негодование при мысли о том, что эти люди, эти чужаки, которым не дано понять ни Париж, ни Францию вообще, заявляют, что я не француженка, считают, что этот город и эта улица принадлежат им.
Купила у Галиньяни отличное издание Sentimental Journey [215] и Lord Jim [216] для себя. Если б могла — застряла бы там на несколько часов.
Потом перешла через мост Согласия и дошла до дома Франсуазы — повидаться с Сесиль. Сесиль говорит, что каждый раз, когда видит солнечным утром баржи на Сене, с тоской вспоминает Франсуазу. И я, когда гуляю, все время думаю о ней. Каждый раз, как что-нибудь доставляет мне удовольствие — теперь это не столько удовольствие, сколько сознание того, что я вижу что-то прекрасное (удовольствие тут ни при чем), — я думаю о Франсуазе, ведь она так любила жизнь, так любила Париж. Мысленно я всегда с ней.
Может, я создана для бурной жизни? Мне никогда не нравилось, когда все тихо и благополучно, маленькой я вечно была чем-то discontented [217]. Но после этого потока человеческих страданий я никогда больше не найду покоя, и никогда моей better self [218] не удовольствоваться собственным эгоистичным счастьем.
И все же я не жалуюсь. Не упиваюсь страданием, как в песни Китса:
— никто не усомнится в том, что оно настоящее.
Я только хочу сказать, что, по-моему, сейчас естественнее горевать, чем радоваться.
Возможно, поэтому я, в отличие от Николь, не люблю Жида. После «Узких врат» читаю «Имморалиста». Насколько меня восхищала «Семья Тибо», настолько не нравится философия наслаждения жизнью у Жида.
Меня всюду подстерегают воспоминания о прошлом годе: калитка в Тюильри, листья на воде! Я живу в этих воспоминаниях, и каждый уголок Парижа пробуждает новые.
Приехал Жан-Поль. Видела его вчера на улице Рейнуар. Ужасно рада за Николь. Наверное, его приезд и навеял мне сон о встрече с Жаном.
«Семья Тибо» — «Эпилог», глава XVI.
С. 305: «Европа не будет чувствовать себя в безопасности, покуда не вырван с корнем германский империализм. Покуда австро-германский блок не проделает эволюции в сторону демократии. Покуда не будет уничтожен этот рассадник ложных идей (ложных — потому что они противоречат общим интересам всего человечества), рассадник мечты о мировой империи, цинического воспевания силы, веры в превосходство германца над всеми прочими народами и его право подчинить их себе».
С. 310, по поводу речи Виктора Гюго против деспотизма: «Если пятьдесят лет назад уже проповедовалось уничтожение деспотизма и ограничение вооружений, это вовсе не значит, что ныне нужно терять веру в то, что человечество выйдет наконец из тупика».
Не значит? В 1943 году нужно иметь большое мужество и веру, чтобы ставить вопрос также, как Антуан в 1918-м.
С. 313. Жан-Полю: «Так соблазнительно освободиться от слишком тяжкого бремени собственной личности! Так соблазнительно дать себя втянуть широкому движению коллективного энтузиазма! Соблазнительно верить, ибо удобно, в высшей степени комфортабельно! […] Чем запутаннее нам кажутся тропы, тем более склонны мы любой ценой выбираться из лабиринта, цепляясь за любую уже готовую теорию, лишь бы она успокаивала, указывала выход. Всякий мало-мальски убедительный ответ на те вопросы, которые мы ставим перед собой и которые не можем решить сами, предстает перед нами как некое убежище, в особенности если мы полагаем, что ответ этот одобрен большинством. […] Крепись, отвергай штампованные формулы! Не позволяй завербовать себя! Пусть лучше терзания неуверенности, чем ленивое моральное благополучие, которое предлагают доктринеры каждому, кто согласен пойти за ними!»
С. 347. Священнику: «Почему молчит церковь, почему она не разоблачает войну? Ваши французские и их германские епископы благословляют знамена и поют Те Deum, возносят хвалу господу за резню…»
Воскресенье, 31 октября, 7.30
Только что разобрали Четвертый квартет Бетховена. Приходила Анник. Несмотря на нашу неуклюжесть, внутренняя мелодия, анданте Так хороши, что меня пробрало до дрожи. Душа моя словно расширилась, вся я наполнилась звуками, и почему-то хочется плакать. Я так давно не слушала эту музыку. Всем сердцем призываю Жана. Это с ним мы слушали квартеты, он научил меня любить их.
Понедельник, 1 ноября
Вчера вечером дочитала «Имморалиста». Кажется, я не понимаю Жида, не улавливаю смысл его книг, потому что он едва намечен, сама проблема изложена не совсем ясно. Зачем Мишель довел жену до смерти? Чего ради? Что позитивного в его позиции? Она даже не выражена определенно.
Кроме того, философия Жида противоположна моей собственной; в его желании от всего получать удовольствие есть что-то дряхлое, вымученное, рассудочное, эгоистичное.
Он исходит из заранее продуманной схемы, его Я — центр мира, ему не хватает смирения, великодушия. Нет, он мне не нравится.
Даже стиль его мне кажется, так это или нет, каким-то вычурным, манерным, устаревшим. Некоторые фразы коробят своей неестественностью.
Мои мысли бесконечно вращаются вокруг двух осей: первая — человеческое страдание, живое, ощутимое страдание людей, которых арестовывают и депортируют; вторая — разлука с Жаном. Две эти боли слились воедино, одну от другой уже не оторвать.
Я будто ворочаюсь с боку на бок в постели — и так мучение, и этак.
Утром получила письмо от мадам Кремье, которая пишет: «Я совсем отчаялась». Боже мой, чем я могу ей помочь? Теперь-то мне легко себе представить, что с ней стало за полтора года тревожного ожидания и неизвестности.
Как-то раз, когда нам обеим с Франсуазой захотелось обнять мадам Кремье, Франсуаза сказала: «Знаете, Элен, она так несчастна, ей сейчас так плохо». Франсуаза всегда весело улыбалась, но в голосе ее — так и слышу его до сих пор — угадывалось искреннее сочувствие. Мы тогда удивлялись, откуда у таких женщин, как мадам Кремье, берется столько сил, чтобы вынести чудовищные испытания. Франсуаза говорила, что она похожа на ребенка, у которого отняли все, — да, мне тоже так потом казалось. А теперь вот и сама Франсуаза… Ее веселый, срывавшийся на высокие ноты голос, ее радостный смех тоже смолкли и звучат только в моей памяти. Она еще сравнивала мадам Кремье с мадам Шварц. Сколько зияющих пустот вокруг меня! После облавы 30 июля меня долго не отпускало чувство, что я — единственная уцелевшая после крушения, и в голове звенела и плясала одна и та же фраза. Пришла незваной и преследовала меня, это слова из Книги Иова, которыми заканчивается «Моби Дик»:
And I alone am escaped to tell thee. [220]
Никто никогда не узнает, каким убийственным было для меня это лето.
С той первой высылки 27 марта 42-го (день, когда депортировали мужа мадам Шварц) мы так ничего ни о ком и не узнали. Говорили, будто депортированных отправляют на русский фронт и пускают впереди войск, чтобы они подрывались на минах.