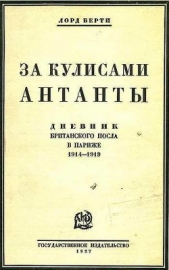Дневник

Дневник читать книгу онлайн
«Дневник» Элен Берр с предисловием будущего нобелевского лауреата Патрика Модиано был опубликован во Франции в 2008 г. и сразу стал литературным и общественным событием. Сегодня он переведен уже на тридцать языков мира. Элен Берр стали называть французской Анной Франк.
Весной 1942-го Элен 21 год. Она учится в Сорбонне, играет на скрипке, окружена родными и друзьями, радуется книге, которую получила в подарок от поэта Поля Валери, влюбляется. Но наступает день, когда нужно надеть желтую звезду. Исчезают знакомые. Ходят тревожные слухи о судьбе депортированных. Семья Берр может уехать, спастись, но они остаются: уехать — значит признать, что они чужие у себя на родине, и предать тех, кому некуда бежать. И утром 8 марта 1944 г. их арестовывают. В лагерях Элен проведет почти год и погибнет за несколько дней до освобождения лагеря Берген-Бельзен.
«Элен Берр… знала, что прямо тут, вокруг страдают люди и творятся зверства, но понимала, что сказать об этом… невозможно, — пишет Патрик Модиано. — И потому писала дневник. Догадывалась ли она, что через много лет он будет прочитан? Или боялась, что ее голос заглохнет так же, как голоса миллионов бесследно исчезнувших жертв? Открывая эту книгу, хорошо бы помолчать, прислушаться к голосу Элен Берр и пойти с нею рядом, Этот голос и эта душа останутся с нами на всю жизнь».
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Словом, никакой внешней опоры у меня нет. Даже тут, дома — насчет мамы я не уверена. Мы никогда не говорим об этом. Ни мама, ни папа никогда не говорят ни о Жане, ни о моем будущем. Возможно, потому, что я сама об этом не говорю и они не знают, что я думаю; возможно, так оно и лучше.
Да и внутри (в том внутреннем храме, который выстроился во мне за те несколько месяцев, что мы были вместе) мне многого не хватает, я слишком мало его знаю. Кроме того, он принесет с собой новый жизненный опыт, который, конечно, окажется весомым и решающим. Однако же есть некое чудесное пространство, где, стоит мне там очутиться, я нахожу тепло и солнце, — это мысль о нашем глубинном сходстве, о том, как мы понимаем друг друга. Туда стекаются все воспоминания трех месяцев прошлого года.
Я не могу говорить и о другом своем горе — о разлуке с Франсуазой, его материя слишком тонка, а потому невыразима.
Остается еще одно, огромное страдание — боль за других: за тех, кто рядом, тех, кого я не знаю, за всех людей на свете. О нем я тоже не могу сказать, потому что мне не поверят. Не поверят, что людские страдания не давали и не дают мне покоя каждый день и каждый час и что я ставлю их выше своих личных. А ведь именно это, и ничто иное, так резко отделяет меня от лучших друзей. Именно в этом причина той тягостной неловкости, того отчуждения, которое непременно возникает, с кем бы я ни заговорила. Неловкость, недопонимание в общении даже с хорошими знакомыми, даже с друзьями — такова расплата за то, что мне плохо от чужих страданий.
Одному Богу известно, чего мне стоит такая расплата, — ведь я всегда и всей душой стремилась отдавать себя другим людям: товарищам, друзьям! Теперь же вижу, что это невозможно — жизнь воздвигла барьер между мною и ими.
И наконец, последнее, впрочем, это уже не столько страдание, сколько жертва, которую я приношу из чувства долга, хоть не могу не понимать, как много значит для меня отказ от работы, от серьезных занятий музыкой, то есть от того, чтобы развивалась важная часть моего существа. But that is nothing [205]. Это совсем не трудно.
Многие ли в двадцать два года вынуждены сознавать, что могут в любую минуту лишиться всех задатков, которые ощущают в себе, — а я без ложного стыда скажу, что чувствую, как велики они во мне, и в этом нет моей заслуги, это всего лишь посланный мне дар; что у них могут все отнять, — сознавать это и не роптать?
Странное противоречие.
Когда я рассуждаю с позиции, общей для всех: всех «нормальных» людей, всех, кто «может» дожить, то думаю, что война скоро кончится — еще каких-нибудь полгода. Что такое полгода по сравнению с тем, что мы уже прошли?
Но внутри у меня, в моем собственном мире сплошной мрак, тревога, меня преследует мысль о неизбежном испытании. Кажется, огромный темный туннель отделяет меня от того мига, когда я снова выйду на свет, когда вернется Жан. Для меня это символ: чтобы возродилось счастье, счастье для всех, мало уцелеть мне самой, нужно, чтобы вернулся Жан. Угроза для меня — депортация, а для него — опасности, которые его подстерегают.
Если же мне вдруг удается посмотреть на все вокруг глазами нормальных людей (теперь это случается так редко!), у меня поднимается настроение, светлеет на душе, но в то же время мне не верится, я думаю: «Да разве можно радоваться?»
Вероятно, уныние охватило меня с тех пор, как окончательно уехал Жан. Мне кажется, теперь со мной может случиться что угодно.
Вчера ходила в гости к Леоте, внешне старалась быть собою прежней, внутри же полный хаос — ужасно неприятно!
Я знаю, зачем веду этот дневник, хочу, чтобы его передали Жану, если, когда он вернется, меня не будет. Пусть, если я исчезну, он узнает все или хотя бы часть того, о чем я думала без него. А думаю я непрестанно. Это, в сущности, одно из моих открытий последнего времени: я постоянно сознаю все, что со мной происходит.
Говоря об «исчезновении», я не имею в виду смерть, нет, я хочу жить, насколько это будет в моей власти. Даже в депортации буду упорно думать о том, чтобы вернуться. Если только Господь не отнимет у меня жизнь, или ее не лишат меня люди — это было бы страшно и совершилось бы не по Божьей воле, а по злому человеческому произволу.
Если это случится и если кто-нибудь прочитает эти строки, он увидит, что я была готова к такой участи, не то чтобы заранее смирилась с ней — не знаю, на сколько хватит моих физических и моральных сил сопротивляться тому, что на меня обрушится, — но была к ней готова.
И может быть, читающий дневник на этом самом месте содрогнется, как содрогалась я каждый раз, когда встречала у давно умершего автора слова о его собственной смерти. Никогда не забуду, как, прочтя рассуждения Монтеня о смерти, подумала словно «из другого времени»: «И вот он тоже умер, это совершилось, а он еще тогда думал о том, что будет после его смерти», — мне показалось, будто он обманул Время.
И то же самое в стихах Китса, от которых захватывает дух:
Но я увлеклась, я не такая мрачная, как эти строчки. И никого не хочу тревожить.
Отдам эти листки Андре. И, как только сделаю это, вероятность того, что Жан их прочтет, станет реальной и существенной. Тогда уже я точно буду чувствовать, что обращаюсь к нему, и не удержусь от искушения перейти от третьего лица ко второму и писать, как писала в письмах: «Жан, вы». Но и это «вы», и все прочие формальности представляются мне чем-то фальшивым, наигранным, как будто это не я говорю, хотя, будь он тут, для меня было бы совершенно естественно говорить ему «вы». Теперь же в душе я думаю или, вернее, чувствую, еще не прибегая к словам, — чувствую, что это мой Жан, и говорю ему «ты», иначе я лгала бы сама себе.
Написала и поняла, что и это неправда. На самом деле я не знаю, как называю Жана в душе, — ведь это происходит на том уровне, где еще нет ни мыслей, ни слов.
Если я напишу «милый Жан», получится, как будто я играю в героиню романа — на ум приходит мисс Триплоу с ее «милым Джимом» из «Марины ди Вецца» [207], — смешно! Смеяться — вот бы хорошо! Жан так любит смеяться. И я раньше смеялась. Теперь же любой юмор кажется кощунством.
Выписываю цитаты из «Семьи Тибо» (из «Эпилога»), которые поразили меня также, как «Рука» Китса.
С. 221. Антуан говорит о войне и о событиях, которые разворачиваются на севере: «Буду ли я свидетелем этого? Ужасающая медлительность, с какой в глазах отдельной личности происходят события, движущие историю, — вот что не раз мучило меня за эти четыре года».
С. 239. 1918 г.: «[…я почувствовал интерес к будущему] К тому будущему, которое начнется с окончанием войны. Всякая вера будет утрачена на долгие годы, если восстановленный мир не переплавит, не перестроит, другими словами — не сплотит истекающую кровью Европу. Да, если вооруженные силы останутся по-прежнему основным орудием политики государств, если каждая нация, скрывшись за своими пограничными столбами, будет по-прежнему единственным судьей своих поступков и не захочет обуздывать свои аппетиты; если федерация европейских государств не приведет к установлению экономического мира, как того хочет Вильсон […]; если эра международной анархии не отойдет окончательно в прошлое […]; тогда все придется начинать заново, тогда, значит, вся пролитая сейчас кровь была пролита понапрасну.