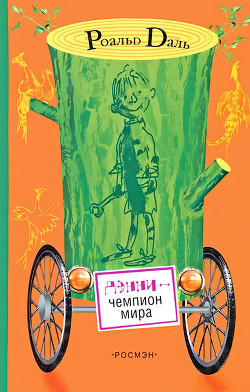Сестра моя Каисса

Сестра моя Каисса читать книгу онлайн
Книга многократного чемпиона мира по шахматам – книга воспоминаний. Острые не только шахматные, но и житейские ситуации, столкновения характеров, портреты великих шахматистов написаны поистине с мастерством писателя. О замечательных спортсменах, об их человеческих достоинствах и недостатках, пристрастиях и чудачествах узнают читатели этой книги.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Помню партию с Савоном – решающую и для него, и для меня на чемпионате страны в Ленинграде. Я напирал страшно, в какой-то момент имел шанс победить, но Савон, почуяв опасность, свернул в сторону. Все же партия была отложена с большим моим перевесом. Фурман взял текст и уехал домой работать. Мы с Талем за ужином обменялись мнениями, как-то легко сформировался план игры на победу. Но я был слишком утомлен, чтобы добровольно засесть еще на несколько часов за доску, зная, что тренер уже принял на свои плечи эту обузу.
Утром Фурман явился с совершенно иным планом. Тогда я доверялся ему почти слепо, посмотрел – вроде бы нормально, проверять не стал. А во время доигрывания в его плане открылась такая дыра… я еле ноги унес, еле уполз на ничью. Стал выяснять, как Семен Абрамович мог придумать такую чушь. И вдруг случайно узнаю, что он всю ночь убил на бридж, и лишь в последнюю минуту набросал первое, что в голову пришло.
Этот эпизод в точности повторился и на Алехинском мемориале. В Ленинграде мне это стоило чемпионства, в Москве – дележа первого места. Правда, впредь таких проколов у Фурмана больше не было. Я ему сказал: «Семен Абрамович, надо выбирать: или бридж – или шахматы». Я уже был первой скрипкой, да и моральное право имел ставить так вопрос. Разумеется, он выбрал шахматы.
Какими бывают тренерские ночные «анализы», лучше всего видно из истории, которую любил рассказывать Петросян.
Это было в пятидесятых годах. Петросян отложил партию в ферзевом окончании, партию очень важную для его турнирного положения; одного взгляда на позицию было довольно, чтобы понять: доигрывание предстоит тяжелое. Усталый Петросян попросил своего тренера Лилиенталя внимательно посмотреть позиция и отправился спать. Утром он обнаружил у себя под дверью записку следующего содержания: «Дорогой сыночку! – писал Андре Арнольдович. – Ферзевый эндшпиль бывают разные финтифлюшка. Тегеранчик, не зевни!»
Как бы там ни было, мы с Фурманом все лучше притирались друг к другу, наша работа двигалась, и это было видно по результатам: играя во все более сильных турнирах, я неизменно оказывался в числе победителей. И вот победа в ленинградском межзональном – трудная, мучительная, но принесшая много и спортивного и творческого удовлетворения, – которую я разделил вместе с Корчным. Конечно, я надеялся в этом турнире победить, но не загадывал и уж тем более не гадал, что при этом почувствую. Я сражался яростно, не видя никого, кроме очередного соперника, я не думал о том, что будет дальше, – и вдруг лязг мечей прекратился, воцарилась непривычная, какая-то особенная тишина. Словно очнувшись, я посмотрел по сторонам и увидал, что стою высоко-высоко. Еще вчера я был вон там, далеко внизу, в шахматной толпе, а сегодня я стою совсем близко от вершины. Я поднял голову – до вершины было рукой подать. Всего три ступени: чертветьфинал, полуфинал и финал. И потом – Фишер. Великий и непостижимый.
Три ступени, всего три, но я знал, как они неимоверно трудны, и не обольщался на свой счет. На сколько хватит сил – на столько и поднимусь. Большего не загадывал.
Чтобы взойти на первую ступень, нужно было победить Полугаевского.
Это большой шахматист, и он столько успел в шахматах еще до нашей встречи, что я понимал: если подходить к матчу, как к борьбе фигур на черно-белых полях, – у меня немного шансов его победить. Но в шахматы играют люди. Значит, интуиция, темперамент, характер, воля во время борьбы имеют такой же вес, как знания, умелость и опыт. И я очень рассчитывал, что мои бойцовские качества, по крайней мере, уравняют наши шансы.
Но и в чисто шахматном плане я не собирался ему уступать. Мальчиком для битья я не был никогда; просто выстоять – этого мне было мало; я надеялся его переиграть. Мою задачу облегчало то, что Полугаевский – при всей своей шахматной силе – игрок очень узкого диапазона. Почти всегда можно было предсказать, что именно он сыграет. А уж в каком духе – тут и гадать было нечего. Белыми он играл позиционно, солидно, глубоко. Он свято верил, что право первой выступки дает возможность так поставить партию, что черные постепенным неумолимым прессом будут задушены, раздавлены. Он считал: достаточно все делать правильно – и у черных нет шансов на спасение.
Но когда черные оказывались у Полугаевского – это был совсем другой человек: резкий, экстравагантный, даже отчаянный. Я долго не мог понять, откуда эта двуликость, чем ее объяснить. Ведь человек – един. Как бы ни складывались обстоятельства, он их оценивает тем эталоном, той мерой, которая заложена в нем. Он не может быть сегодня одним, завтра – другим. Он один и тот же, но меняются обстоятельства – и он вынужден по-разному на них реагировать. Ведь обстоятельства не изменишь! – значит, нужно к ним приспосабливаться самому; оценивая их своей мерой, отвечать в соответствии со своими возможностями.
Ответ, как и всякий правильный ответ, оказался простым. Даже удивительно, как он сразу не пришел мне на ум: Полугаевский именно потому был отчаянно дерзок черными и изо всех сил раскачивал лодку, что он ясно представлял, какое безнадежное дело играть против белых в позиционные, правильные шахматы. Веруя в неотвратимость удушающего зажима белых тисков, он готов был идти против себя, против своей сущности – только бы этих тисков избежать.
Он был отважен со страху.
Но это не истинная отвага.
А раз так, решил я, значит, Полугаевский не сможет выдержать самого простого: моей демонстрации уверенности в собственной силе и успехе. Моя уверенность, естественная в любой борьбе, должна была сразу вывести его из равновесия, взвинтить ему нервы, поджечь его свечу со второго конца, и там уж только от его запаса прочности зависело, надолго ли его хватит.
Полугаевского хватило на три игры.
В четвертой случилось то, к чему он неотвратимо шел. Истощенный бесконечным пересчитыванием вариантов (хотя известно, что уверенности это не прибавляет), подавленный моей невозмутимостью, он в цейтноте не только растерял все добытое до того огромное преимущество, но и скомпрометировал позицию. При доигрывании он попытался спастись, выбрав не самый сильный, зато неожиданный план; мы с Фурманом вообще его не рассматривали при домашнем анализе. Но сбить меня с толку ему не удалось. Я понял его замысел – и выиграл схватку.
Но это был не конец – только трещина. Сломался же Полугаевский лишь на следующей партии.
Играть с ним его варианты (а именно так я построил этот матч: когда проигрываешь на своем поле – боль сильнее; правда, риск был огромен, но я не боялся риска) – все равно, что идти по минному полю.
Я опять попал на домашнюю заготовку! Да такую великолепную, что, когда он сделал этот ход, я мгновенно понял: это конец; партию мне не спасти. Даже не успев взволноваться, не успев пережить эту ситуацию, я сразу оказался по ту сторону черты. А коли так – стоит ли переживать? Ведь уже случилось, произошло, дело сделано, ничего не изменишь; как говорится – слезами горю не поможешь. И я настроился на философский лад. Сдаваться, разумеется, мне и в голову не пришло. Я игрок, и пока у меня есть хоть один шанс, я борюсь. Пусть, думаю, покажет, как он это делает. А сам расслабился, легко ему отвечаю и совсем не сижу над доской, гуляю по сцене да мурлычу песенку, привязалась вдруг ни с того ни с сего такая липкая:
«Все как дым растаяло…» Ну, конечно, только вчера имел плюс один – и опять ничего…
Честно признаюсь: это не было продуманным спектаклем, как-то само так получилось. И именно естественная безмятежность моего поведения сразила Полугаевского. Он же видит, что на доске мне крышка, но если при этом я так спокоен и так легко играю, значит, я вижу что-то такое, чего не видит он… На него было жалко смотреть. Снова и снова он пересчитывал варианты – и не мог понять, как я спасаюсь. Еще бы! – он искал то, чего не было.
В итоге – ничья. Ничья, равная катастрофе: Полугаевский понял, что он не сможет у меня выиграть никакой позиции.
Но что самое поразительное – это ничуть не отразилось на отношении Полугаевского ко мне. Напротив – чем хуже складывались его дела, тем он становился по отношению ко мне предупредительней и доброжелательней. Ни с кем и больше никогда я так подробно и откровенно не обсуждал только что сыгранную партию, как с ним. Эти анализы очень сблизили нас. Один из парадоксальных итогов матча: он подарил мне дружбу Полутаевского. Если бы так заканчивались все матчи!