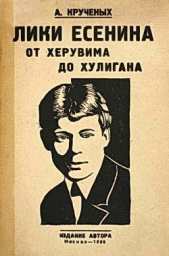О других и о себе

О других и о себе читать книгу онлайн
Автобиографическая проза Бориса Абрамовича Слуцкого (1919–1986), одного из самых глубоких и своеобразных поэтов военного поколения, известна гораздо меньше, чем его стихи, хотя и не менее блистательна. Дело в том, что писалась она для себя (или для потомков) без надежды быть опубликованной при жизни по цензурным соображениям.
"Гипс на ране — вот поэтика Слуцкого, — сказал Давид Самойлов. — Слуцкий выговаривает в прозу то, что невозможно уложить в стиховые размеры, заковать в ямбы". Его "Записки о войне" (а поэт прошел ее всю — "от звонка до звонка") — проза умного, глубокого и в высшей степени честного перед самим собой человека, в ней трагедия войны показана без приукрашивания, без сглаживания острых углов. В разделе "О других и о себе" представлены воспоминания Слуцкого о своих товарищах по литературному цеху — Н. Асееве, А. Ахматовой, И. Эренбурге, Н. Заболоцком, А. Твардовском, И. Сельвинском, С. Наровчатове, М. Кульчицком, а также история создания некоторых наиболее известных его стихотворений. Раздел "Из письменного стола" включает в себя фрагментарные мемуарные записи, отличающиеся таким же блеском и лаконизмом, как и вся проза Слуцкого. Большинство материалов, включенных в книгу, публикуется впервые
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Подобно людям, из всего лексикона любовной лирики узнавшим три похабных слова, они сводили все дело к нескольким телодвижениям, вызывая обиду и презрение у самых желторотых из наших офицеров. Конечно, знание языка способствовало ловеласам, так же как и нахальство, умение вовремя пригрозить, напугать. Но были люди абсолютно бессловесные, к тому же девственники, которые развратились в заграничном походе, не выучив и десяти слов на иностранном языке.
Не будем, однако, бросать камень в огород европейских магдалин.
Во всеобщей свистопляске оккупации, правительств, личных знакомств и перемен девственность казалась слабой ниткой, привязывающей к довоенной устойчивости, к категорическому императиву, морали, семье. И многие рвали ниточку. Сдерживающими побуждениями служили совсем не этика, а боязнь заразиться, страх перед оглаской, перед беременностью.
Однако так называемый жизненный опыт вскоре разуверил европеянок в фашистской легенде о поголовной зараженности красноармейцев. Боялись, пока в газетах печатались документы, подобные акту «о большевистских зверствах, выявленных при отвоевании Фельдбаха». Огромными буквами, черным по красному, свидетели (один профессор, один епископ, один рабочий, один английский военнопленный) утверждали: все взрослые жительницы Фельдбаха, уцелевшие от убийств, заражены сифилисом и триппером.
Но минули две недели оккупации. Городская лечебница Граца закончила обследование изнасилованных в городе и окрестностях, и мне странным тоном, успокоительным тоном, было заявлено, что, к счастью, из ста семидесяти четырех пострадавших только семь заболели триппером.
Так был сокращен тезис о зараженности. Болезнь огласки была устойчивее. Устранить ее было довольно трудно.
Однако существовали физические условия, способствовавшие свободной международной любви.
Это были: право постоя, вселившее в каждую семью молодого офицера, независимо от того, были ли в этой семье мужчины и пожилые женщины или нет. Таким физическим фактором, затруднявшим огласку, была и специфика европейских квартирных условий, полная изоляция жилья одной семьи, отсутствие общих ванн, кухонь, коридоров.
Наряду с физическими были и моральные условия, срывавшие огласку. Постепенно факт завоевания развратил творившие общественное мнение верхи.
Тот же самый епископский канцлер (доктор Штайнер, заместитель Павликовского, князя — епископа Штирии), который в апреле громогласно, черным по красному, обвинял нас в семи смертных грехах, в мае подписывал публичные акты Комиссии по расследованию гестаповских зверств. Нельзя сказать, чтобы последние украшались этой подписью, но акты черно — красные были окончательно скомпрометированы, а вместе с ними и Штайнер как один из творцов «общественного мнения о прелюбодеянии».
Вышесказанное вполне применимо к еще одному разряду «высоких свидетелей» — профессуре. Они тоже подписывали и наши, и фашистские акты.
Третья категория «высоких свидетелей» — рабочие — поспешно ушла в лояльнейшую социал — демократию.
Наконец, четвертая категория — английские и американские военнопленные — толпились в комендатурах, готовые лизать руку, которая выписала бы им пропуск в союзническую зону.
Всеобщая развращенность покрыла и скрыла особенную женскую развращенность, сделала ее невидной и нестыдной.
Так была бита по пунктам порождавшая боязнь огласки черно — красная афиша.
Оставалась боязнь беременности.
Однако в сороковых годах XX века европейская биохимия и европейская фармакология поставили беременность в разряд процессов, вполне поддающихся управлению. Половина лирических сюжетов подлежит атрофированию в эпоху вагиноля и контрауситина. То же можно сказать о мотивации многих дамских самоубийств и детоубийств.
Оставалась небольшая категория женщин, не умевших или не хотевших вытравить плод. Они‑то и составляли проблему, особенно в Австрии, стране, где всеобщая религиозность и всеобщая лояльность перед законом восставали против абортов.
В Штирии дело дошло до того, что обком обсуждал меры, как помочь женщинам, забеременевшим от русских. Решили организовать травление тайно. Здесь кончается проблема легкости любовных отношений и начинается проблема прочности этих отношений. Уже в августе — сентябре 1944 года румынки пытались применить прием, изобретенный еще римскими матронами во времена Алариха и вандалов. Весь 3–й Украинский фронт смеялся тогда над приказом, живописующим свадьбу капитана, Героя Советского Союза, командира стрелкового батальона на помещичьей дочке. Рассказывали о приданом — 30 миллионах (тогда еще весьма калорийных) лей, лошадях, какой‑то посуде. Проспавшись после свадьбы, капитан расписался на приказе и поехал дальше. Так окончился этот, может быть первый, «европейский» брак наших офицеров.
В начале 1945 года даже самые глупые венгерские крестьяночки не верили нашим обещаниям. Европеянки уже были осведомлены о том, что нам запрещают жениться на иностранках, и подозревали, что имеется аналогичный приказ также и о совместном появлении в ресторане, кино и т. п.
Это не мешало им любить наших ловеласов, но придавало этой любви сугубо «оуайдумный» характер.
Русский язык
Еще в Румынии, в августе 1944–го, профессия переводчика стала выгоднейшей. В Венгрии переводчикам русского языка платили министерские оклады.
Вице — губернатор Шомоди Штефайч Паль пожаловался коменданту Капошвара, что переводчик комендатуры Николай получает на шестьсот пенго больше вице — губернаторского жалованья. Захаров, не опровергая по существу, указал, что колбасник комендатуры получает три тысячи пенго в месяц.
Полнее всего дефицитность русского языка удостоверяла вывеска: «Нужно пощадить. Вишневский» — на воротах частного дома.
Комендантом Надьканижи тогда был майор Вишневский, который рассматривал эти вывески как замену охраны.
Там же на социал — демократическом партдоме висела вывеска: «Заведение социал — демократической партии».
Я сам выдавал венгерским попам шпаргалки: «Дом священника — под охраной комендатуры». Попы дули на непросохшие чернила и укладывали бумажонки в недра шелковых, парадных ряс.
Митра Митрович перевела на сербский «Непокоренные» Горбатова, не зная русского языка. Перевод был издан. Факт, говорящий не только об эластичности стиля Митрович, но и о податливости стиля Горбатова.
Партизанские генералы, комиссары, министры, объяснявшиеся по — русски необычайно уверенно, зачастую не знали ничего. Нешкович и Тодорович, завидя меня, кричали обидно — приветливо: «До свиданья!» Впрочем, «здравствуйте» при прощании с русскими говорила вся Балканская Европа. В подполье изучали более «Антидюринг» в подлиннике. Русское исходило от многочисленных белогвардейцев и имело одиозный привкус.
Переводчики вербовались:
A. Повсюду — из белогвардейцев. В Субботице целое поколение белогвардейской молодежи ушло в переводчики к пограничникам. Дети. Отцы уходили в охранный корпус. В комендатуре Граца работала мышиного цвета старушонка. Говорила со смольным акцентом. Оплачивалась обедами из солдатской столовой. У нее нашли револьвер, пропавший у дежурного офицера. Позже я видел ее за решеткой комендантской каталажки.
Б. В Румынии — из бессарабцев. Их было очень много. В Крайове русскую речь можно было слышать на улице. Бродили бородатые, унылые, беглые попы — близнецы сельских батюшек. В 1940–м они репатриировались из Аккермана или Бендер. Бедствовали. Шептали. В Румынии переводчики были дешевые более, чем где‑либо.
B. В Румынии — из придунайских некрасовцев, удивительного народа, сохранившего пыточную, староверческую свежесть языка раскольнического списка в Тульче и детскую верность России. Когда формировались добровольческие коммунарные дивизии «Тудор Владимиреску», некрасовцы шли туда толпами. Я встречал их, возвращавшихся с фронта, в выцветших красноармейских гимнастерках третьего срока, в пилотках, белых от стирки; частенько оборванных, ощущавших свое «заодно» с красноармейцами, бурлившими на станциях. На вопрос о планах и перспективах они отвечали: «бить румынских буржуев».