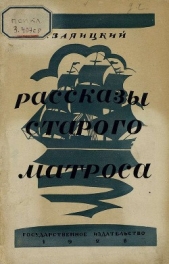Рассказы старого трепача

Рассказы старого трепача читать книгу онлайн
Воспоминания известного режиссера, художественного руководителя Театра на Таганке охватывают без малого восемь десятилетий. Семилетний Юра присутствовал на похоронах Ленина в 1924 году; «Евгений Онегин» — премьера театрального мэтра Любимова — состоялась в 2000 году.
В своей книге автор придерживается хронологии: детство, первые театральные роли, создание легендарной Таганки, изгнание из СССР, возвращение, новые спектакли. По ее страницам проходит целая вереница людей — друзей, единомышленников и недругов, врагов. Эти люди во многом определяли культурно-политическую жизнь страны в XX веке. И это придает мемуарам Юрия Любимова удивительную неповторимость.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
А через некоторое время нас перебросили — куда-то под Москву, я еще помню, что там я отморозил себе еще раз щеки — на лыжах мы ходили, для родителей что-то хотели поменять. Когда мы были в Москве, я всегда бегал к папе и маме, собирал им что-то из еды или еще что-то, что можно было раздобыть, и пользовался случаем, от тревоги до тревоги бегал, приносил им домой.
Потом мы выступали в метро «Маяковская», где был Сталин на торжественном заседании 7 ноября.
А потом, когда был первый раз пробит коридор между Ленинградом и Москвой — и тут же он захлопнулся — и вот нас направили в Ленинград.
Помню, когда мы туда ехали по этому коридору, я еще неудачно всех разыграл, схулиганил:
— Простреливают и уклон большой. Все ложитесь и лежите. А потом мы пройдем и скажем вам, когда вставать.
А потом вошел начальник и сказал:
— Вы что, с ума сошли? — не пройдешь же, все лежат. — Кто приказал?
Говорят:
— Любимов проходил, говорит, тут уклон большой, поэтому нужно всем лечь, чтоб равновесие было, чтоб вагон не перевернулся.
И тот сказал:
— Вот мы доедем, я тебе покажу уклон, я тебя положу.
Туда-то мы проехали, и коридор захлопнулся, и мы там накрылись на несколько месяцев. А обратно мы выбирались уже по Ладоге — я помню торчащие мачты кораблей, потому что много кораблей топили. Это было ранней весной. Ходили по улицам несчастные дистрофики, опухшие от голода люди, — а город ведь все время обстреливали — и мы видели, как они по стенке шли и уже не реагировали, а мы вздрагивали — все-таки снаряды летали. Можно одной фразой сказать: «Врите что хотите, и все равно, чтобы вы ни выдумали, реальность была страшней. Вы не выдумаете таких ужасов, которые были». Я видел, как мужичонка привез на какой-то кляче остатки еды из деревни. И он, извиняюсь, чуть отошел помочиться. И налетела какая-то дикая орда совершенно голодных людей и разорвали лошадь. И он стоял и плакал.

Выступали мы там в доме культуры, где совсем близко фронт был, на улице Стачек, там же один дом — фронт, а другой — Дом культуры. Электричество в нем включали только на то время, как мы выступали. Мы очень отощали, работать было тяжело. Танцоры уже насилу ноги волочили.
Потом мы где-то достали в городе бочки с полужидким мылом. И, так как я бывший монтер, на кирпичах сделал плитку электрическую. И когда включали свет, мы варили мыло, выпаривали из него воду и тогда оно превращалось в твердый кусок. Мы даже умудрились потом это мыло с собой привезти. И мы меняли это мыло, все же на кусок этого мыла можно было еще что-то выменять — пол-литра, например.
Или, например, спит человек — мы в одной комнате спали, где потеплей — и ногой все время придерживает свой чемодан, чтоб мы к нему не забрались и не украли, потому что у него была там сахару пачка. Он нам даже не верил, думал, что он заснет, и мы украдем у него сахар.
И это помню, как маленький кусок хлеба долго жуешь, чтоб было впечатление… запивая кипяточком, если удастся его согреть. Видимо, паек нам давали такой же, какой выделялся всем защитникам города. Голод был все время. Мне еще повезло — в меня повариха влюбилась. И она мне немножечко подкладывала, но так как на раздаче все смотрят, она очень боялась и только чуть-чуть больше какой-то картошки или каши пол-ложки больше. Уж очень я ей нравился.
Помню, когда мы вернулись, нас в Москве встречали родственники и, конечно, на лицах у них был ужас — видимо, мы были очень изможденные. На себя как-то не очень смотришь, а вот по реакции других… Мама меня встречала, по-моему…
Нас «цветок душистых прерий» Лаврентий Палыч (прерия — Берия: рифма!) посылал на самые трудные участки — показать, что его ансамбль самый передовой.
Потом мы попали в разбитый Сталинград. Это была такая библейская картина. Ночью мы в составе подползли поездом, и вот эта панорама разбитого города, танки — прямо в стену врубленные и остановленные. И она врезалась в глаза. Луна светила — и этот весь разрушенный город, выл ветер, и все пробоины бесчисленные: в крышах, в трубах дождевых — они свистели от ветра — получался дьявольский орган какой-то, необыкновенной мощи. Свистел ветер, уже было холодно, по-моему, даже снег. «Мело, мело по всей земле, во все пределы». Потом мы куда-то дальше поползли. Такие обрывки воспоминаний.

В это время Константин Симонов отхлопотал меня, и я начал сниматься в фильме «Дни и ночи» у Столпера. По-моему, он даже до Берии дошел, потому что был высочайший указ меня отпустить на съемки. Я играл капитана Масленникова. Мы на пароходе жили в разбитом Сталинграде. Помню, снималась сцена с пулеметом — из разрушенного здания я стреляю из «максима» холостыми, строчу, а из-за угла идет колонна пленных немцев, там уже работали пленные. И они с перепугу, увидя ствол и стрельбу, все полегли. Они-то ведь не знали, думали, их привели на расстрел. И это все вошло в картину.
Когда меня отпускали на съемки, мне врезались слова начальника. Я спросил:
— Ну, а как мне узнать, когда вы меня вызовете?
— Вы не волнуйтесь, когда будет надо, вас найдут и доставят на выступление.
Ну и вот я как-то моюсь в душе, вдруг нервный стук ко мне в каюту и взволнованный голос директора картины:
— Товарищ Любимов, за вами пришли.
— Кто пришел? Дайте домыться.
— Товарищи пришли. Срочно, срочно требуют. Должны вас взять.
— Кто взять, куда взять? — Группа съемочная, мне тут весело, и вдруг — взять. И действительно, стоит товарищ и говорит: «Срочно вас должны доставить туда-то». И меня сунули сперва на грузовик, он меня привез к какому-то пункту, а оттуда в Москву. Ансамбль тогда должен был выступать в Одессе. Ответственное выступление перед командующими какое-то было… И запомнился мне замечательный театр в Одессе.
И вот я помню, что сначала я на каком-то паровозе ехал, потом какой-то грузовик схватил… потому что срочно я должен был прибыть. Телеграмма была за подписью Абакумова, мощная такая. Но в Москве самолетов нет, рейсов никаких, только военные, и меня начальник аэропорта не принимал. Тогда я вышел и сметку проявил, позвонил и сказал: «Вам должны были позвонить, надо доставить такого-то. Сейчас придет наш представитель — взять». Позвонил и явился, показал телеграмму абакумовскую. Он куда-то позвонил, вдруг меня кто-то схватил, бах! — и в самолет какой-то транспортный, где сидел восточного вида генерал кгбэвский, вино стояло, свита — и меня туда: «Товарищ генерал, вот приказ от Абакумова», — и меня туда вбросили и полетели. И он меня вином напоил и все говорил: «Зачем тебе какой-то ансамбль? Сейчас полетим дальше. Тут знаешь, какие дела предстоят!» Кишинев уже был взят. Но я как-то смекнул, что мне все-таки лучше туда не лететь.
Я поспел к самому выходу — как в театре. Грязный, на каком-то грузовике я добирался, и — начальник начал сначала орать — я говорю: «Я еле добрался, вы видите, в каком я виде!» — рожу мне отмыли, напялили на меня костюм и я выскочил играть. Видимо, я ему все-таки как артист больше нравился, чем дублер: того раздели, меня одели и выпустили.
Я был в Москве, когда узнал, что кончилась война. Этот день я помню, как мы куролесили весь день и всю ночь. Мы с моим знакомым раздобыли где-то «виллис» и носились на «виллисе», на Красную площадь заехали. Все были пьяные, орали. шумели, лазили на крыши, стреляли из каких-то ракетниц, пускали автоматные очереди в воздух — что тут творилось! Все обнимались, целовались, думаю, большое пополнение населения было этой ночью.
Всех нас отпустили, дали увольнительную на сутки или даже больше.
После войны были какие-то тихие годы, нас куда-то возили, но не отпускали. Берия старался все сохранить, а не сохранялось… Я все это помню смутно, потому что я мечтал уже оттуда смыться любыми путями — сколько можно? Я попал в армию еще до финской войны, так что лет восемь я уже был в армии, а он все задерживал, задерживал. Других-то он отпускал. Но то приходил приказ расформировать ансамбль, то его опять не расформировывали. И потом все-таки его расформировали, и я должен был по законам вернуться на старое место работы.