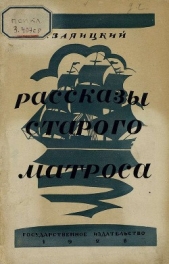Рассказы старого трепача

Рассказы старого трепача читать книгу онлайн
Воспоминания известного режиссера, художественного руководителя Театра на Таганке охватывают без малого восемь десятилетий. Семилетний Юра присутствовал на похоронах Ленина в 1924 году; «Евгений Онегин» — премьера театрального мэтра Любимова — состоялась в 2000 году.
В своей книге автор придерживается хронологии: детство, первые театральные роли, создание легендарной Таганки, изгнание из СССР, возвращение, новые спектакли. По ее страницам проходит целая вереница людей — друзей, единомышленников и недругов, врагов. Эти люди во многом определяли культурно-политическую жизнь страны в XX веке. И это придает мемуарам Юрия Любимова удивительную неповторимость.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Сначала нас водили строем к казармам. А потом Юткевич, Тарханов начали говорить, что все-таки они артисты, нельзя так. И тогда разрешили в метро ездить в солдатской форме. Казарма была где-то в переулках за Курским вокзалом. Какая-то школа, что ли, была, огромный зал. Я помню, что по тревоге оттуда нас сгоняли в метро, но мы прятались и не хотели. Всех гоняли в метро, а некоторые из нас, чтоб поспать, тихонько прятались в сортире. И еще мне запомнилось, что то приказывали окна закрывать, а то приказывали окна открывать, потому что взрывная волна выбивала и ранила стеклами. Эти кресты на окнах клееные не помогали, от взрывной волны — все вылетало и еще хуже ранило, потому что более крупные стекла летели, скрепленные этой бумагой. Все время поступали какие-то инструкции, которые противоречили одна другой, часто совершенно бессмысленные.
Один раз нас даже посетил Берия и отбирал программу для Кремля. Дунаевский очень дрожал, брат «великого» Дунаевского. Наверху, в кабинете у начальника, сидели Шостакович, Юткевич, Тарханов, Свешников, Голейзовский — на случай, если Берия пожелает дать указания им всем, — все сидели и ждали. В зал, конечно, никого не пускали, только на сцене артисты. С трепетом все ждали. Вдруг все двери открылись, появились мальчики в штатском, руки в карманы. Потом распахнулась дверь, вошел Сам — в кепке, в пальто, не снимая. Никому ни «здрасьте», ни «до свидания». Крикнул с грузинским акцентом:
— Начинайте!
И все это завертелось, закружилось, заплясало, запело. Полчаса все это продолжалось. Потом пауза. И он сказал:
— В Кремль поедет: первая песня о Вожде, вторая песня обо мне: «Шары бары, верия, Берия», — на грузинском языке: там были грузины, они танцевали и пели — Сухишвили-Рамишвили, — потом молдавский танец поедет и русская пляска поедет, где бабы крутятся, и все красивые ляжки видны. Все!
И ушел. Все двери захлопнулись, мальчики скрылись. И в тишине начальник ансамбля сказал:
— Вот это стиль, будем прямо говорить! Учиться надо!
А почему я так это запомнил все? Потому что сначала начальник меня позвал и говорит:
— Будешь вести. С шутками, понимаешь… — ну, с эрдмановскими.
Потом что-то он занервничал, ходил, ходил и наконец приказывает:
— Ко мне!
Я подбежал:
— Есть, товарищ начальник.
Он говорит:
— Не надо никаких шуток. Ты садись тут, сиди.
И другого позвал и сказал:
— Князев, иди ты. Строго выйдешь. Военным шагом. Доложишь: танец такой-то, музыка такая-то и… никаких шуток, а то знаешь еще…
И я сел, притаился рядом в партере и все это видел. Это был черный мраморный зал за Лубянкой, клуб НКВД Черный мрамор с желтыми прожилками. И он был очень длинный и похож на гроб. Он и сейчас, по-моему, там.
Войну я встретил на границе. Нас с ансамблем послали обслуживать границу, мы приехали с составом своим и с этим же последним составом, уже под бомбежкой немцев, мы возвращались.
До этого еще были какие-то поездки. Но эта просто мне запомнилась. Мы проезжали Ригу — и выступали в гарнизонах. Нас посылали бригадами небольшими — Зиновий Дунаевский устраивал такие помпезные концерты. Его путали с братом, с Исааком, все принимали за брата и устраивали политические овации: «За великого Дунаевского! За великого Сталина!» и т. д.
Вечером мы играли в Таллине. Потом нас посадили в грузовики и послали дальше, к границе, и вдруг через час вернули. И нам сказали, что утром будет спектакль для высшего комсостава.
И когда мы пошли играть, то один переулок, который ближе всего к городскому театру, был перекрыт, но нас пустили — мы же чекисты. И была целая вереница грузовиков с ранеными солдатами. Я спросил:
— Что, ребята, случилось?
— Бои идут.
Значит, всю ночь шли бои, и я уже видел колонну раненых. Бои шли, потому что колонна была большая.
Я помню, мы начали играть, стали бомбить, и от страха все разбежались, публика уходила, а мы — солдаты, только по команде можем. И мы начали помогать эвакуации театра. Почему мне это так врезалось? Я все бегал чего-то выносил и, пробегая, видел портрет Шаляпина с надписью: «В этом маленьком театре я испытал минуты вдохновения, которые я не забуду». И я все хотел, честно говоря, спереть этот портрет Федора Ивановича. И жалею, что в этой панике забыл, все бегали, грузили, уже чего-то рушилось, взрывалось.
Из Таллина я уходил с последним составом.
Еще помню, как мужики ломились в этот состав, а мы оцепили поезд и сажали только женщин и детей. И какой-то коммуняга кричал и размахивал партбилетом:
— Пустите, я нужен нам!
Ну мы его под белы рученьки и вывели из поезда.
Или как мы, солдаты, выкидывали чемоданы в окно, чтоб посадить детей. И бабы нас били, потому что мы их скарб выбрасывали. Но паровоз не мог стронуться с места.
Пока мы погрузили все, уже город бомбили. Я помню трагический отъезд этого состава — он не мог тронуться, буксовал. И тогда пришлось выкидывать сперва мужчин, оставляли лишь женщин и детей. Матери кидали детей, ну хоть детей возьмите. Ну и мы тихонько брали. И на меня кто-то орал:
— Застрелю!
Мы бежали за поездом, потому что он еле шел, и люди бежали за поездом, чтобы уцепиться за него.
Это был последний поезд, который уходил из этого города, поэтому загружался он сверх меры, к нему чего-то еще прицепили. А уже бомбили станцию, но легко — чесали пулеметом, потому что они, видимо, берегли ее, чтобы входить. Они довольно быстро шли.
А «мессера» бомбили состав, обстреливали. Мы проезжали какой-то город, начался обстрел, и на глазах девочки, маленькой совсем, убили мать. Она высунулась в окошко и кричала.
И вот я помню чувство страха. Ребенок кричит, и я чувствую стыд, как же можно, а ноги не идут. Я пошел за ребенком, но вот это ощущение страшное — не идут ноги и все. Мне казалось, что я иду час, а, наверное, все продолжалось одну минуту. Я взял ребенка и ушел, пополз в рожь дальше. А там была комедия. Ползет довольно полная дама, и, когда самолеты пролетают, она от страха подолом закрывает голову, и вот такая задница в голубых трусах наших до колен. А пожилой человек в панике ее хлопает дрожащими руками и говорит:
— Закрой, десант высадят! — без юмора совершенно.
А мне все-таки чувство юмора не изменяло — я увидел эту сцену и заржал.
Мы взяли девочку с собой в вагон. А потом надо было ее сдать где-то. Отдали мы ее в каком-то городе. Не помню, где-то пришли и сдали в детдом. Нет, видимо, до Москвы я ее не довез, потому что в Москве я ее отдал бы своим родителям.
Мы добирались до Москвы несколько дней. Встречали много знакомых. Эшелоны идут с солдатами, мы выбегаем и все рассказываем, потому что мы-то оттуда. Они спрашивают:
— Ну как, как? Что идет? Остановили? Наши наступают?
Мы-то на себе испытали и понимали, что дело плохо. Мы так медленно продвигались, что видели войска, которые идут вперед. Просто в боевом порядке, тут фронт. Значит, так медленно ехал состав.
Первый раз в жизни я сделал сам композицию о Суворове со стихами и анекдотами о нем, когда нужно было ехать отдельными маленькими фронтовыми бригадами в ополчение и надо было сделать небольшую программу. И так как я любил стихи давно, то нашел книгу «Анекдоты о Суворове» — там очень забавные есть анекдоты и стихи замечательные: лермонтовские, пушкинские — и сделал такую композицию… Первыми шли лермонтовские стихи про Наполеона: «Москва… Он вздрогнул, ты упал». Композиция понравилась, и даже я записал ее на радио. Остужев читал стихи: «Пусть ярость благородная вскипает как волна. Идет война народная, священная война!..» — и еще что-то, а я читал свою композицию. Мы записывали это в доме ДЗЗ, в этом же переулке у меня теперь квартира. Такие вот фантастические совпадения. Читал я на радио в Москве, когда уже все бежали.