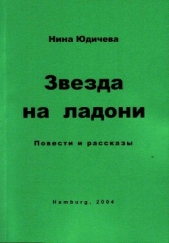Случай Эренбурга

Случай Эренбурга читать книгу онлайн
Илья Эренбург, одна из самых противоречивых фигур в советской литературе и общественной жизни, предстает в этой книге не только прекрасным прозаиком, тонким поэтом и блистательным публицистом, но прежде всего человеком, переживающим драму, поставившим свой талант на службу сталинскому режиму и делающим многое этому режиму вопреки. Размышления автора о жизни и творчестве Эренбурга перемежаются воспоминаниями о встречах и доверительных беседах с ним.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Мы посмеялись.
Лиле я привет от Эренбурга не передал. (Если бы передал, она бы сказала: «Вот видишь, значит, все-таки надо все тщательно проверять, а ты надо мной смеялся!» И, разумеется, была бы права.) А на меня от этого утреннего эренбурговского звонка повеяло каким-то теплом. Мне показалось, что «старик» позвонил совсем не для того, чтобы передать свой саркастический привет нашему бюро проверки, а скорее для того, чтобы еще раз окунуться в атмосферу нелепой газетной суеты, в которой он жил весь вчерашний день и с которой, видать, ему не хотелось расставаться.
Это на миг связавшее нас чувство фронтового братства, возникшее по такому ничтожному и даже комическому поводу, как ни странно, не только не исчезло, но даже укрепилось.
Постепенно мы стали ощущать «старика» своим боевым соратником. Да и он нас тоже. Сперва, как я уже сказал, — своими лазутчиками во вражеском стане. А когда выяснилось, что стан не вражеский, — своими товарищами по оружию.
Впрочем, этот наш стан хоть и был ему совсем не вражеским, но чувствовать себя там вполне своим он мог только с нами. Он постоянно был с нами как бы в заговоре (как, впрочем, и мы с ним) против нашего начальства, хоть и всячески к нему расположенного, но все-таки не вполне «своего».
Вот, например, такой наш с ним разговор. Один из многих, но — особенно хорошо мне запомнившийся.
Кочетов опубликовал очередной свой бездарный роман, в котором откровенно выступал против хрущевской «оттепели», ратовал за возвращение страны назад, к Сталину. Мы изо всех сил пытались уговорить наше литгазетское начальство выступить с резкой статьей, разоблачающей не только художественное убожество, но и политическую реакционность этого кочетовского изделия.
Но начальство боялось Кочетова больше, чем Хрущева, что свидетельствовало, во-первых, о том, что оппозиция либеральным хрущевским реформам в стране была очень сильна, а во-вторых, о том, что и сам Хрущев двигался по своему либеральному пути зигзагами (как говорит на флоте — галсами). Его постоянно мотало из стороны в сторону, и было довольно-таки трудно угадать, какова будет его реакция на такую статью, если она появится.
Окончательно убедившись, что на начальство нам в этом деле надеяться нельзя, мы (Лазарь и я) решили предпринять самостоятельную «подрывную» акцию. Отправились к Эренбургу, надеясь уговорить его написать статью против Кочетова. Если бы это нам удалось, начальству нашему деваться было бы некуда: не напечатать статью, подписанную громким именем Эренбурга, наш главный редактор никогда бы не посмел.
Но Эренбург участвовать в этой авантюре отказался. Выслушав нас, он долго молчал, как видно, перебарывая себя.
— Не трогайте меня сейчас, — наконец сказал он. — И ведь не отсиживаюсь в тылу. Я печатаю мемуары.
Мы поняли, что настаивать было бы жестоко. Да, наверно, и бесполезно.
К сказанному он еще добавил хорошо запомнившуюся мне реплику, смысл которой состоял в том, что даже в случае успеха нашего замысла разоблачать и даже просто крепко ругнуть Кочетова нам все равно не позволят. Разве что так, слегка, для виду.
— Баю-баю-баюшки, будут нагоняюшки, — усмехнувшись, сказал он.
Эту его поговорку я хорошо запомнил, быть может, еще потому, что слышал ее от него дважды. Во второй раз — много позже и совсем по другому поводу.
Сейчас уже не помню, в какой связи он заговорил на эту тему, но речь зашла о том самом выступлении Ф.М. Головенченко, в котором тот радостно объявил собравшимся, что «арестован космополит номер один Илья Эренбург».
Когда слух об этом дошел до него, он не стал, дрожа как заяц, ожидать дальнейшего развития событий, а сразу сделал ответный ход: позвонил Маленкову и спросил, как ему следует это понимать. Возникла довольно долгая пауза, но связь не была прервана. Прошло, как ему показалось, минут пятнадцать, после чего Маленков коротко объявил ему, что те, кто распространяет эти ложные слухи, будут наказаны.
— Ну и как? — спросил я. — Были они наказаны?
И вот тут Илья Григорьевич и повторил давешнюю свою фразу.
— Ну, вы же знаете, как они наказывают своих. «Баю-баю-баюшки, будут нагоняюшки».
Вернусь, однако, к тому нашему визиту.
Покончив с Кочетовым, мы обратились к другим темам. Заговорили о Хрущеве. О его непоследовательности, половинчатости. И тут я, наверно, перешел границу дозволенного, назвав первого человека государства то ли недоумком, то ли малограмотным болваном, который и сам толком не знает, чего хочет.
— Вы ошибаетесь, — мягко возразил мне Илья Григорьевич, — у Никиты Сергеевича, конечно, немало недостатков, но это серьезный политический человек.
Я сразу понял, что сказано это было не «страха ради иудейска», что Эренбург на самом деле считает невежественного и суматошного Хрущева «серьезным политическим человеком».
Но согласиться с этим я не мог.
— Да разве серьезный политический человек устроил бы всю эту истерику по поводу Пауэрса? [2] — горячился я. — Ну, ладно. Истерика — это еще куда ни шло. Это, в конце концов, вопрос темперамента. Но разве серьезный политический человек сорвал бы из-за этого визит Эйзенхауэра? Разве серьезный политический человек наплевал бы на весь мир, в том числе и на Де Голля, который склонялся к мирному решению скандала? Да и сам Эйзенхауэр тоже ведь извинился. Серьезный политический человек, как вы его назвали, не стал бы давать волю своим чувствам…
— Поверьте мне, — повторил Илья Григорьевич. — Это серьезный политический человек. И если он решил устроить всю эту, как вы говорите, истерику, значит, были у него для этого еще и какие-то другие причины, гораздо более важные, чем личная обида.
— Ну, хорошо, — сказал тогда я. — Если это действительно так, если он и в самом деле серьезный политический человек, неужели никто, вот хоть вы, например, не может ему объяснить, что роман Кочетова направлен прямо против него, против всей его политики?
— А вот это, — улыбнулся Эренбург, — объяснить ему как раз нельзя. Он этого просто не услышит. И уж тем более если бы говорить ему об этом стал я… Когда я — да что я, даже Корнейчук! — несколько раз пытался завести с ним разговор о литературе, у него сразу появлялось… Вы ведь знаете, у него же на лице все написано, он не умеет скрывать своих чувств… Так вот, у него сразу появлялось такое выражение: «Ох, обманет!..» Нет, что касается литературы, тут он верит только своим: Софронову… Грибачеву… Тому же Кочетову…
— Своим?! — изумился я. — Да ведь они же его ненавидят!
— Да, — кивнул Эренбург. — Но они ему социально близкие.
Разговор этот происходил на эренбурговской даче в Новом Иерусалиме. Отправились мы туда на редакционной машине и провели там чуть ли не полдня. Нас накормили обедом и угостили хорошим французским коньяком. Не был забыт при этом и наш водитель.
Видимо, удовлетворенный оказанным нам приемом, на обратном пути он полюбопытствовал:
— А у кого это мы были?
Лазарь коротко бросил:
— У Эренбурга.
Он, понятное дело, был уверен, что никаких дополнительных объяснений этот его короткий ответ не требует.
Но за первым вопросом тут же последовал второй, совершенно нас ошеломивший:
— А кто это?
С грехом пополам объяснив ему, кто такой Эренбург, мы только молча переглянулись. Но долго еще не могли выйти из шокового состояния, в которое поверг нас этот безмятежный вопрос — такой, казалось бы, естественный в устах совсем молоденького парнишки.
Оставшись одни, мы долго еще обсуждали этот больно задевший нас эпизод.
Я склонен был объяснять случившееся классической ленинской формулой: «Страшно далеки они от народа». Мол, все, что нам представляется таким важным, широким массам трудящихся — до лампочки.
Лазарь со мной не соглашался. Он считал, что объяснение казуса лежит в сфере биологии, а не социологии: будь, дескать, наш шофер хоть немного постарше, объяснять ему, кто такой Эренбург, нам бы не пришлось. Ну, а уж будь он его, Лазаря, военного поколения, так только рот бы разинул: «Сам Эренбург? Вот это да-а! Думал ли я тогда, в сорок первом, что приведется мне своими глазами его увидеть!»