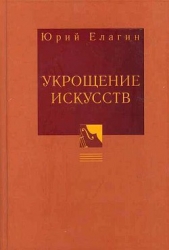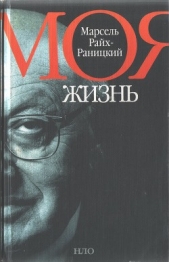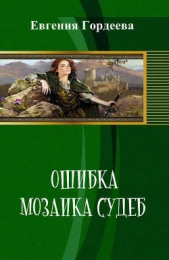Мозаика еврейских судеб. XX век
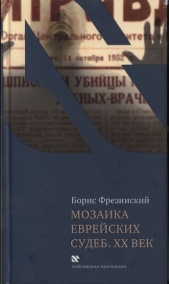
Мозаика еврейских судеб. XX век читать книгу онлайн
Книга историка литературы Бориса Фрезинского содержит 31 сюжет. Их герои — люди как общеизвестные (Соломон Михоэлс, Натан Альтман, Илья Ильф или Василий Гроссман), так и куда менее знаменитые. Все они жили в XX веке — веке мировых катастроф — и работали преимущественно на территории Российской империи или СССР. Книга не случайно начинается с повествования об убийстве Соломона Михоэлса — знакового для советской эпохи преступления, обнажившего начало нового политического курса Сталина…
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Как видим, Н. Я. привела две строчки почти точно — работая над «Воспоминаниями», она этого листка перед собой не имела, но в 1960-е годы его, несомненно, перечитала и помнила.
Что касается стихов, где «что-то про умный лоб и „звезды в окнах ВЧК“» — то речь идет о следующем стихотворении Лапина:
Это стихотворение напечатано в книге «Молниянин». И. Кунин пишет, что это стихотворение о Ленине: «„Рыдучие горевальцы“ — это мы все, и на нас с усмешкой смотрит из-под стекла „умный, мертвый, плоский лоб“. Лапин сказал нам с сестрой: это — о портрете Ленина». Как видим, Н. Я. помнила про упоминавшуюся там аббревиатуру, но в ее памяти расхожая ВЧК вытеснила вышедшую из употребления М.П.К. (Московская Потребительская Коммуна [41]).
Три аргумента: 1) то, что Н. Я. подарила И. И. Эренбург только один листок (с текстом стихотворения «Лес живет»), 2) что она не помнила точно, сколько (2 или 3) стихотворений Лапина Мандельштам переписал, и 3) что она смогла привести более или менее точно две строчки только из стихотворения «Лес живет» — говорят в пользу предположения, что в 1960-е годы Н. Я. второго листка не видела, а значит — уцелел лишь один листок со стихотворением Лапина, переписанным Мандельштамом, а второй и, возможно, третий — утрачены (так что память Н. Я. по части упомянутой Лапиным «ВЧК» — давнего времени).
Теперь о том, как мог Мандельштам получить тексты Лапина.
Стихотворение «Лес живет» напечатано в «1922-й книге стихов», вышедший в 1923 году. Эта книга анонсировалась во втором сборнике «Московского Парнаса», вышедшего в конце ноября 1922-го, и, скорей всего, издана в начале 1923-го (Брюсов писал о ней в апрельском номере «Печати и революции») — так что, скорей всего, в конце 1922-го, когда Мандельштам составлял «Антологию русской поэзии от символистов до наших дней», лапинская «1922-я книга стихов» еще не вышла из печати, и с вошедшими в нее стихами составитель «Антологии» мог познакомиться только по рукописи. Что касается выпущенной «Московским Парнасом» в мае 1922 года книжки «Молниянин», то естественно предположить, что ее передал составителю «Антологии» автор и глава издательства — Б. М. Лапин. Таким образом, можно считать, что личное знакомство Мандельштама с Борисом Лапиным состоялось в конце 1922 года.
Мандельштам, отбирая стихи для «Антологии», видел стихотворения Бориса Лапина на фоне огромного потока тогдашнего рычащего виршеплетства (недаром он отверг убогие сочинения пролетарских поэтов), и, мне кажется, самый образ семнадцатилетнего московского мальчика, в котором проглядывала серьезность, всепоглощающая страсть к литературе и жизни, к языкам, неожиданным знаниям, человека, увлеченного Хлебниковым, тихого и глубокого, — способствовал интересу Мандельштама к стихам Лапина. Интерес этот в 1922-м (когда Лапин знал лишь «Камень») не был взаимным, но, начиная с «Tristia», поэзия Мандельштама в жизнь Лапина вошла. И тот факт, что встречи их продолжались до самого 1938 года — подчеркну: с Мандельштамом, а не прописанным по «партийной» программе «центрифугистом» Пастернаком (поэтом, разумеется, не менее значительным, но с Лапиным, сколько понимаю, лично не пересекавшимся), — думаю, заслуживает того, чтобы быть специально отмеченным.
Закончим канву ранней поэтической работы Лапина.
Группа и издательство «Московский Парнас», по-видимому, в том же 1923 году, когда вышла «1922-я книга стихов», перестали существовать. Во всяком случае, две следующие книги стихов Б. Лапина: «Гимны против века» (стихи 1923 года, написанные в его первую поездку в Таджикистан) и «Бессонная ночь» (стихи 1924–1925 годов) — изданы не были; лишь в 1975 году, готовя к печати книгу избранных стихов Лапина и Хацревина (она вышла в 1976 году под названием «Только стихи»), составитель Константин Симонов включил в нее четыре стихотворения Лапина 1923 года, одно — 1924-го и тринадцать — 1925-го. Но это уже стихи совершенно иные — в них чувствуются отголоски реальных впечатлений жизни. Назвать их маловразумительными Брюсов бы никак не мог, и советская цензура через полвека их пропустила. Отход Лапина от поэтики Хлебникова не прекратил его встречи с Мандельштамом — они становились все более дружескими.
С 1925 года шаг за шагом Лапин становится писателем-путешественником. И тут, говоря о начале этой перемены, снова процитирую Габриловича: «В этом маленьком человеке в очках жил беспокойный дух путешественника. Помню, я ехал в Ялту. Борис пошел меня провожать. Стоял апрель, холодное московское время, Борис был в пальто и в галошах. Мы сидели с ним в ожидании отхода поезда, когда к нам подошел человек, сказавший, что у него есть лишний билет в Севастополь. Лапин тут же купил билет. И поехал со мной на юг, успев позвонить отцу (который, кажется, не удивлялся уже ничему), что едет надолго. И точно: уехал надолго, на восемь месяцев, в пальто и галошах без багажа. Сначала он путешествовал пёхом по Крыму, в жару, в пальто и галошах, потом отправился на Кавказ, добывая себе на хлеб работой в местных газетах, потом пересек Каспийское море и попал в Среднюю Азию. Здесь полюбились ему таджики, и он полгода жил в их стране, все в том же пальто и галошах».
В стихах Лапина 1925 года можно найти прямое прощание с прежней оседлой жизнью:
Иосиф Кунин вспоминал о Лапине: «Однажды, вернувшись из большой поездки в Таджикистан, он сказал мне, что при переправе через бурную горную речку стихи, которые он возил с собою в мешке, утонули и что он решил больше стихов не писать. Не могу сказать, как это нас с сестрой огорчило. Думаю, что причина этого решения была иная — времена менялись, и то, что без колебаний получало в начале 20-х годов гриф „РВЦ“ (что означало — „разрешается военной цензурой“), уже на подступах к 30-м стало невозможным к печати. А стихи Лапина, будь то овеянные немецким романтизмом, или персидским красноречием, или колониальной поэзией Киплинга, не помогали ни росту производства, ни воспитанию патриотизма. И следовательно, не могли пройти через плотину редакторского скудоумия и трусости. Помню, когда мы вышли вместе с Лапиным из Дома печати, Борю остановил редактор журнала „Красная новь“, старый большевик и культурный человек, прося в журнал его переводы из немецкой поэзии, прибавив: „Только чтобы никакой мистики!“ Под мистикой тогда понималось, как, впрочем, и позднее, все выходившее за рамки привычной поэзии».