Неунывающий Теодор. Повесть о Федоре Каржавине
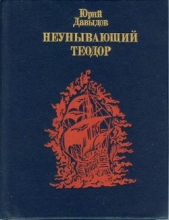
Неунывающий Теодор. Повесть о Федоре Каржавине читать книгу онлайн
Юрий Давыдов — известный писатель, автор многих исторических романов и повестей. В серии «Пламенные революционеры» вышли его повести «Завещаю вам, братья» (об Александре Михайлове), «На Скаковом поле, около бойни» (о Дмитрии Лизогубе) и «Две связки писем» (о Германе Лопатине). Новая книга Давыдова посвящена Федору Каржавину — современнику и единомышленнику Радищева, предшественнику декабристов, участнику американской революции. Автор сочинений, проникнутых бунтарским духом, просветитель, смыслом жизни которого были стремление к свободе и ненависть к рабству, — таким предстанет на страницах повести Федор Каржавин.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Но поступали ли грузы, отправленные торговым домом «Родриго Горталес»? Поступали и раньше и позже, но в ту страшную зиму — нет. Впрочем, однажды привезли обувь, однако парижские сапожники не угадали, каковы ноженьки американских пахарей, лесорубов, охотников. Не лезла, хоть плачь.
Тот, кто не был в Валли-Фордж, утверждал лейтенант Роуз, не подозревает, что такое страдание. И не сознает, что такое чудо.
Да, рядовые дезертировали сотнями: «Невмоготу! К дьяволу!» — и уходили домой, к голодным ребятишкам и женам. Да, десятки офицеров вложили в ножны свои шпаги: «Всему есть предел!» Да, назревал бунт: «Хлеба!» Угрюмая, глазастая, обросшая щетиной толпа накатила на штабной барак: «Требуем генерала Вашингтона!»
Изможденный, обметанный сединою, он молча смотрел на солдат. Они ждали, что он скажет. Он ничего не сказал. Его лицо стало мокрым от слез. Тогда сказали солдаты: генерал, мы хотим только, чтобы вы знали, каково нам достается. Он знал, его рацион был не жирнее.
И чудо свершилось: повеяли весенние ветры и призраки, вынесшие невыносимое, принялись готовиться к летней кампании.
— А теперь, мой друг, — заключил Джон Роуз, — вы почти в райских кущах.
И впрямь, нынешняя зимовка — начала семьдесят девятого года — отличалась от прошлогодней, Валли-Форджской. Роуз многое приписывал благодеяниям Франции.
Год уже, как Франция открыто выступила на стороне Штатов. Эскадра, плещущая белым королевским флагом, действовала в водах Вест-Индии. Экспедиционный корпус, блещущий белой униформой, дислоцировался на континенте. Правда, версальские политики отнюдь не рвались таскать для американцев каштаны из огня. Но, сказал Роуз, генерал Вашингтон признает, что Франция спасает нас своими поставками.
Вот это — спасает поставками — обрадовало Каржавина: Вашингтон, в сущности, отдавал должное усилиям Пьера Бомарше. И все же Неунывающий Теодор, в отличие от Джона Роуза, полагал благодеяния Франции недостаточными. Говорил: «Да, привезено немало шарлевильских и мобежских изделий. В храбрости ребят, нахлобучивших плошки, [30] я нимало не сомневаюсь. Однако никто и ничто не спасет американцев, ежели они сами себя не спасут».
Захваченный как шпион и, к счастью, реабилитированный не посмертно, Каржавин попал в отряд, находившийся в непосредственной близости английских аванпостов. И теперь уж Смуглая Бетси была для него не только символом революции.
Взглянув на боевые порядки континентальной армии, вы увидели бы и пенсильванские, и французские ружья, увидели бы и английские гладкоствольные мушкеты, вот эти-то и прозвали — Смуглая Бетси.
Патрик великодушно простил мистера Лами за то, что он — не шпион. Втроем они участвовали в вылазках: третьим был худенький солдатик, похожий на девицу и посему носивший имя Ненси. Стреляя по королевским гренадерам в высоких медвежьих шапках, Патрик рычал: «Будьте вы прокляты!» А Ненси звенел колокольчиком: «Да направит господь пулю сию…»
Стычки требовали храбрости. Каржавин различал храбрость и мужество. Первое — вспышка, второе — постоянный огонь. Он находил, что способен на храбрость. Но мужествен ли? Нет, не ручался. Другое дело, говорил Каржавин, Патрик, Ненси — все, кто прошел ад Валли-Фордж — пурпурные сердца! Не всегда на мундире или на куртке, но всегда в груди. [31]
Отвага зависела от сердца, но не зависела от цвета кожи. И тогда, и впоследствии Каржавин пылко подчеркивал доблесть «черноцветных». Его пылкость воспламеняла ненависть к тем виргинцам, которые спесиво разглагольствовали в таком вот духе: негры подлы, ибо услужливы, а услужливы потому, что подлы; натура рабская, а рабы никогда не станут солдатами, воюющими с деспотией…
— Скоты! — Каржавин ударял кулаком по столу. — Они платят белому солдату, а черному кукиш: получить, мол, после войны… Ни крупицы совести! Как не признавать заслуги черноцветного народа? Джек Сиссон и Сейлем Пур — стоили батальона. Добровольцы из Коннектикута — гроза! А при Идентоне? Не сыщись тот малый, ничего бы не выгорело. А проворство и неутомимость черных разведчиков? А как убирают часовых на аванпостах — молния! [32]
То ли еще на борту «Ле Жантий», то ли уже в зимнем армейском лагере Джон Роуз узнал о том, что Каржавин сведущ в медицине. Пришлось, засучив рукава, пособлять батальонному лекарю до приезда помощника, назначенного главным хирургом континентальной армии.
Вернусь ненадолго во Францию.
В парижском анатомическом театре Каржавину бывало нестрашнее, чем на театре военных действий. Несчастного пса распинали на широком столе. Пес выл. Профессор работал недрожащей рукой. Отсекал сердце, поднимал на ладони — смотрите! Трепет кровавого комочка отзывался тяжелой болью в левой скуле Теодора Лами — там, где ему, маленькому, ломали кость, пожизненно награждая серповидным шрамом.
Правду сказать, фармацевтика влекла куда больше хирургии.
В аптеку на улице де Граммон (рядом с русским посольством) он хаживал легким шагом.
О, храм фармацевтики: четыре фрески, мягко освещенные светом стрельчатых окон, аллегории четырех стихий — земли н воды, огня и воздуха. И две бронзовые фигуры — древнего грека весьма пожилого и древней гречанки совсем молодой: Асклепий, бог врачевания, и Гигиея, дщерь его. Дубовые шкафы и полки красного дерева уставлены посудой, утварью, давильными прессами — стекло, медь, мрамор. А в деревянном футляре с кружевным орнаментом — миниатюрные весы.
О, жрец фармацевтики Марсель Полиньяк: черная мантия, лиловая ермолка на седых, кольцами волосах. На указательном пальце — аметистовый перстень. Аметист протрезвляет пьяниц? Да ведь всей округе ведомо было, что господин провизор несгибаемый трезвенник. А может, жрец фармацевтики обнаружил и целительность аметиста от желудочных колик? Ведь мсье Полиньяк страдал желудочными коликами.
Стоп! Грех трунить над добряком, готовым помочь последнему бедняку, грех потешаться над учителем Теодора Лами. Мсье Полиньяк давал практические уроки. А книги не давал, то есть не позволял уносить домой. Потомственный аптекарь дорожил наследством предков — медицинскими словарями, травниками, диссертациями, среди них была и курьезная — Игнациуса Цинкера, автора замечательных открытий: мол, некоторые птицы врачуют пристальным взглядом своих круглых глаз, а некоторые, например индийские и шотландские утки, произрастают на деревьях.
Храня наследство, фармацевт поступал правильно. Да видать, старательно-любознательный ученик столь уж импонировал аптекарю, что тот изменил своему правилу — подарил Лами трактат Пьетро Кресченци. Теодор рассыпался в благодарностях, его библиофильская душа трепетала. Еще бы! Венецианское тиснение начала шестнадцатого века, великолепный переплет, экслибрис со щитами и львами, орлиными крыльями и герцогской короной — восхитительно! А сверх того, и пользительно: свод наблюдений — свойства овощей, растущих на огородах. Хрен редьки не слаще? Верно. Но жженый хрен заживляет раны, а редька натертая — язву. Свежетолченый хрен вроде горчичников, а соком редьки усмиришь кашель. Чеснок? Диоскорид, земляк Асклепия, приметил чудодействие чеснока при кишечных беспорядках. Морковным соком лечи гнойники и ожоги, сок свекольный победит воспаление легких…
Пометками, пометками, пометками испещрял наш библиофил латинский текст. Книголюбы всплеснут руками: «Варвар!» А он готовился к дальним странствиям и сознавал необходимость готовности к помощи своим ближним. И на книгах, купленных в лавках улицы Сен-Жак, знакомой с юности, тоже чиркал перышком: «желтуха», «пиявница», «от каменной болезни», «перевозка больных», «морские сухари»…
Незадолго до отплытия «Ле Жантий» Каржавин приобрел влетевший в копеечку набор хирургических инструментов: ампутационная пила, троакар для пункции грудной и брюшной полости, трепан для «взлома» черепов, ланцет, пулевые щипцы, турникет, останавливающий кровотечения. На оружие огнестрельное и холодное, предназначенное для убийства и калечества, смотришь спокойно, любуясь чистотой, искусностью работы, ничуть не задумываясь, что оно, это вот огнестрельное, это холодное, может оборвать твою жизнь, изорвать твою плоть. На инструмент же хирургический, предназначенный для спасения, для вызволения, смотришь иначе: будто на себя «примеряешь» — и холодок по спине. Зловещее — огнестрельное и холодное — подло умалчивает о хрупкости нашего бытия. Милосердное, хирургическое, одним лишь острым блеском своим наводит на мысль о тонкой, легко рвущейся нити земного существования…


























