Неунывающий Теодор. Повесть о Федоре Каржавине
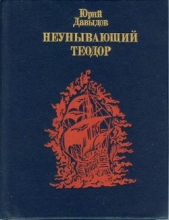
Неунывающий Теодор. Повесть о Федоре Каржавине читать книгу онлайн
Юрий Давыдов — известный писатель, автор многих исторических романов и повестей. В серии «Пламенные революционеры» вышли его повести «Завещаю вам, братья» (об Александре Михайлове), «На Скаковом поле, около бойни» (о Дмитрии Лизогубе) и «Две связки писем» (о Германе Лопатине). Новая книга Давыдова посвящена Федору Каржавину — современнику и единомышленнику Радищева, предшественнику декабристов, участнику американской революции. Автор сочинений, проникнутых бунтарским духом, просветитель, смыслом жизни которого были стремление к свободе и ненависть к рабству, — таким предстанет на страницах повести Федор Каржавин.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Итак, генерал Вашингтон отдал им должное. Но плантатор Вашингтон не упускал из виду столь жесткие понятия, как «конкурент» и «конкуренция». И потому: виват прекрасной Франции, спасающей нас оружием; нет Франции, желающей осенить Америку белым знаменем с бурбонскими лилиями.
А эти двое — дез Эпинье и граф Сегюр, подливающий превосходный пунш в бокал мсье Лами, — эти двое, сдается, были сильно задеты отношением Вашингтона к начальнику своего штаба. Э, слуга покорный, не одни лишь материальные нужды санкюлотов погнали его превосходительство в Филадельфию. [26]
Дело было такое. Коль скоро Франция признала независимость Соединенных Штатов и подписала союзный договор, следовало ожидать подмогу не только на море, а и на суше. У Лафайета возник план — объединенными силами континентальной армии и французского корпуса двинуться в Канаду и там, в Канаде, разгромить англичан. Этот проект он представил конгрессу. Вашингтон содрогнулся. Как! Американцы своей жизнью, своей кровью положат к ногам Людовика Канаду? Вашингтон ринулся в Филадельфию. Он говорил конгрессменам о бедствиях армии, но с еще большим напором ниспровергал замысел Лафайета, чем, между нами сказать, давал маркизу веский повод повторять: я, Лафайст, больше чувствую себя на войне, находясь в американском лагере, нежели приближаясь к английским боевым порядкам.
Каржавин не винил ни Лафайета, ни Сегюра и Эпинье во «французском своекорыстии». Правда, годы спустя граф и в Зимнем и в Гатчине представлял, так сказать, французский эгоизм, однако в ту пору Сегюр честно ратовал за независимость восставших колоний. Но, как ни прискорбно, сотрапезников, ужинавших в фешенебельном отеле «Тронтин», не сочтешь великими полководцами.
Вашингтон мыслил здраво. Не только стратегически — в точном, военном значении слова. Он и на «стратегию» тыла смотрел без розовых очков: цинизм казнокрадов и наглая роскошь выскочек; бизнес в политике и аполитичность бизнеса; распри джентльменов, заседавших во Дворце независимости: война требует единства, а конгрессмены превыше прочего ставят выгоды своего штата. Между тем положение армии, положение страны роковое.
На сей счет Сегюр и дез Эпинье думали так же. И потому голос майора артиллерии был грустен, когда он говорил Каржавину о неиссякаемом энтузиазме своего дядюшки. Обещания обратных поставок не исполняются, минуты отчаяния настигают Бомарше, но Бомарше заверяет, что по-прежнему будет помогать восставшим: «Славный, славный народ!»
Восклицание Бомарше повторил Каржавин, рассказывая о «Приюте трех моряков», где в низком, с закопченными потолочными балками зале собирались «сыны свободы» — мастеровые и подмастерья, поденщики и чернорабочие. [27]
Каржавину все было внове, все исполнено глубокого значения. И хоровое, согласное пение в начале собрания: «Тесней вперед, сыны свободы!» И эти значки с изображением древа Свободы на груди каменщиков и плотников, кузнецов и печатников, шорников и штукатуров. И внятное чтение вслух свежих газет. И неспешные, серьезные рассуждения по поводу прочитанного. И спокойная решимость держаться до победы. И нежелание сменить господство короны на господство некоронованных.
Каржавин видел думающую чернь. Она желала уяснить, кто будет править Америкой, свергнувшей британскую тиранию. Не жажда мести и разгрома владела ею, а жажда разумного устроения общественной жизни. И Каржавин, произнеся «чернь», сделал перечеркивающий жест. Сказал: «класс». Прибавил: «Класс большинства». И еще: «Люди низшего класса»… Лицо его вдруг омрачилось: Федор вспомнил Чумной бунт.
Он был и в Бостоне. Подробности не удержались в моей памяти, разве что прозвище горожан, отличавшихся устойчивой невозмутимостью: «белая печень». Он и туда, в Бостон, доставил секретные пакеты; но от кого и кому — убей, не знаю.
На тракте Бостон — Нью-Йорк в харчевне «Братец Джой» у него была назначена встреча с майором дез Эпинье. Каржавин поспел к сроку. Хозяин постоялого двора ему не понравился — плутовская рожа. Но Федор подумал, как все мы думаем в подобных случаях: э, детей с ним не крестить. А хозяин сразу назвал его мистером Лами. Ухмыльнулся: господин майор предупредил — приедете на замечательном жеребце. И спохватился: «Прошу прощенья, сэр. Вот письмо».
Федор прочел: дела вынудили дез Эпинье задержаться в Филадельфии; мсье Лами предстоит добираться в одиночку, и притом близ английских позиций; надо, сударь, все хорошенько взвесить, прежде чем поставить жизнь на карту.
Утром, позавтракав жареной свининой с картофелем и напившись чаю, Каржавин бодро вышел из харчевни. Было морозно и солнечно, снег сверкал. Оставалось крикнуть: «Коня!» — и пуститься в путь. И Федор крикнул: «Коня!» Тотчас возник хозяин харчевни. Его рожа выражала ту крайнюю степень растерянности, за которой следует первая степень отчаяния.
— Прошу прощенья, сэр… Прошу прощенья, сэр… — повторял этот мерзавец, разводя руками и как-то нелепо приседая, словно охотясь за курицей.
Швырнув на пол седло с притороченными седельными пистолетами, Федор опрометью бросился в конюшню. Коня не было! Федор ринулся назад. Он пристрелил бы негодяя, да-да, пристрелил бы, но кто-то из подручных хозяина успел стянуть и пистолеты.
Вчера еще конный, Каржавин был отныне пешим. Он глядел туча-тучей. Мороз и солнце, студеный, крепкий воздух, этот скрип снега под ногами союзно взялись помочь ему. Он выравнял шаг, велел себе шагать мерно.
Майор дез Эпинье предостерегал от гужевой, фурманной дороги — держитесь линии, разделяющей наши позиции от вражеских. Совет был дельный, но трудноисполнимый: приметы, указанные майором, не сравнишь со штурманской картой.
Холодное солнце поднималось все выше, снежный наст сверкал все ослепительней. Каржавин, однако, но подозревал близость беды. Он шел полями, перелесками, по льду ручьев, шел, наливаясь тяжелой усталостью, жмурился, терял и снова находил нужное направление. Порой ему чудился дым жилья, он прибавлял шагу, запах дыма исчезал.
И вдруг лицо его взмокло от слез. Он отирал слезы варежкой из кроличьей шкурки. (И варежками, и ондатровой шапкой, и кожаным жилетом, и теплыми сапогами, как и долгополой курткой на волчьем меху, — всей этой фермерской справой Каржавин обзавелся еще в Бостоне.) Слезы лились неудержимо, в глазах была резь нестерпимая. Тропа двоилась, пропадала, вновь возникала, и опять ее не было видно. Наконец все смешалось и погрузилось в темноту. Его ослепили солнце и снег. В давнем, далеком качалась вывеска… Дядюшка Ерофей потешался — грамотеи: «Окулист для глаз»… Раскачиваясь на кронштейне, вывеска издавала длинный ржавый звук. И этот звук терзал Каржавина, пока он, словно наперекор судьбине, не одолел несколько ярдов и почти уж незрячим не наткнулся на одинокое дерево — то, что оно было одиноким, словно бы родственно обрадовало Федора. Собираясь с силами, но обессилев вконец именно потому, что остановился, он, опустившись на снег, привалился спиною к дереву. Котомка мешала — стащил ремни, положил котомку на колени. Съестным не запасся, предполагая краткость дороги. В котомке было полдюжины сухарей и полпинты рому. Он понимал, что не смеет прикладываться к фляжке. И приложился, глотнул. Достал сухарь…
Мысли мешались, он погружался в забытье. Ничего не видел, только слышал, опять слышал длинный ржавый звук — «Окулист для глаз». Но звук менялся, обретал полноту, плавность, был волнистым, шел кругами, стал серебряным, чей-то голос произнес: «Серебра в колоколах много, вот что, господин учитель». И Федор понял, что лавра неподалеку и тракт неподалеку, и там, на тракте, рядом с лаврой — ямской стан…
Подняли рывком и встряхнули, как пустой мешок. Пахнуло конским потом, звякнуло оружие.
— Вперед! — гаркнул сиплый бас.
— Патрик, — взмолился чей-то голос, — посади беднягу в седло.


























