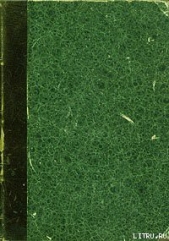Повести моей жизни. Том 1

Повести моей жизни. Том 1 читать книгу онлайн
Постановлением «Об увековечении памяти выдающегося русского ученого в области естествознания, старейшего революционера, почетного члена Академии наук СССР Н. А. Морозова» Совет Министров СССР обязал Академию наук СССР издать в 1947—1948 гг. избранные сочинения Николая Александровича Морозова.Издательство Академии наук СССР выпустило в 1947 г. в числе других сочинений Н. А. Морозова его художественные мемуары «Повести моей жизни», выдержавшие с 1906 по 1933 гг. несколько изданий. В последние годы своей жизни Н. А. Морозов подготовил новое издание «Повестей», добавив к известному тексту несколько очерков, напечатанных в разное время или написанных специально для этого издания.В связи с тем, что книга пользуется постоянным спросом, в 1961 и 1962 гг. было предпринято новое издание «Повестей» в двух томах, которое в основном повторяло трех томное издание 1947 г. Настоящее издание отпечатано с матриц 1961 г.Редакция и примечания: С. Я. ШтрайхОтветственный редактор: проф. Б. П. Козьмин
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Я дам вам карту, — сказал он, — нанесите на нее обнажение, соберите как можно больше окаменелостей и представьте мне вместе с подробным описанием поездки.
На дорогу он предложил, кажется, тридцать рублей с тем, что мы не будем возвращать ему остатка, а употребим, если он окажется, на наем местных мальчишек, чтобы помогли при разведке, как всегда делается в подобных случаях.
Шанделье, конечно, с восторгом согласился и тут же, получив деньги, помчался ко мне. Но я был у Алексеевой. По первому импульсу он хотел оставить мне записку, но потом ему пришла лукавая мысль уехать, оправдываясь моим отсутствием, одному, произвести единолично всю разведку и этим сразу выдвинуться в ученом мире.
Так он и сделал. Он приехал в Рязань, нанял на оставшиеся деньги много мальчиков, осмотрел весь берег далеко за указанными ему пределами, но не нашел ничего интересного, так что и отчет его вышел бледен. В довершение всего он попал в рязанской гостинице в руки к какой-то местной сирене, которая и отпустила его с таким подарком.
— Если б ты был со мною, — закончил он свой рассказ, — ничего подобного не случилось бы.
И это была правда. В наших постоянных блужданиях под Москвой мы не раз подвергались на пути таким атакам, но я, как несколько старший, всегда успешно отклонял их одной и той же фразой, чтобы не обидеть:
— Извините, пожалуйста! Нам теперь некогда. Мы очень заняты!
Эта моя фраза всегда казалась Шанделье чрезвычайно смешной, и всю дорогу им овладевали взрывы неудержимого хохота.
Впоследствии, уже через четыре года, я встретил Шанделье студентом Горного института. Все внешние признаки болезни были залечены, но он остался каким-то вялым и хилым, и все его прежнее увлечение наукой исчезло.
Шанделье умер через несколько лет, не успев сделать ничего для геологии.
В той же самой лечебнице для венерических больных я узнал от Шанделье, что заседания нашего общества происходили лишь два раза после моего отъезда, а затем рефераты окончились как-то сами собой, а вечеринки у Печковского превратились в простые собрания для того, чтобы потолковать о различных предметах и главным образом об общественных вопросах.
Журнал наш более не выходил.
Так кончило свои дни «Общество естествоиспытателей», разбитое бурей жизни.
Через несколько дней, найдя наконец Печковского, я узнал от него, что все остальные мои связи со старым миром оказались ликвидированными.
Вскоре после моего отъезда на пропаганду в Потапово произошло в Москве несколько арестов, и мое имя было произнесено кем-то, как имя человека, уже давно занимающегося пропагандой среди учащейся молодежи.
На то, что пропаганда эта на девять десятых состояла из привлечения всех окружающих к занятиям естественными науками, в которых я тогда видел все спасение человечества, не было обращено никакого внимания. Властям не было до наук никакого дела. Все они поголовно хлопотали лишь о том, чтобы упрочить свою собственную карьеру, выставить себя на показ высшему начальству и для этого старались хватать как можно больше людей, пользуясь всяким предлогом. Притом же занятие естественными науками вместе с ношением очков и длинных волос считалось тогда главнейшим признаком неблагонамеренности.
В один прекрасный день, как мне рассказал Печковский, в гимназию, где я учился, явились жандармы и забрали мои документы. В угоду жандармам я был тотчас исключен по приказу попечителя учебного округа без права поступать в какие бы то ни было учебные заведения России. Наш законоучитель произнес против меня громовые речи в двух старших классах, а затем и в церкви. Они взволновали сверху донизу нашу огромную гимназию, где было более шестисот воспитанников, и, как мне говорили потом товарищи, вызвали ко мне всеобщее сочувствие.
Мой отец, обеспокоенный тем, что я не еду на каникулы, прислал мне по адресу Печковского две телеграммы, но, не получая никакого ответа, приехал сам. Печковский сказал ему, что я уехал куда-то на урок, не оставив адреса, но отец ему не поверил и, явившись к директору гимназии, узнал от него все.
Руководясь своим представлением о вожаках нигилистов, как о людях, завлекающих неопытную молодежь в опасные предприятия под прикрытием возвышенных целей и затем, когда они достаточно скомпрометированы, показывающих им вдруг свои когти и начинающих эксплуатировать их или распоряжаться ими, как пешками, под угрозой доноса, он сейчас же подумал, что такой участи подвергся и я. Затем, по этим же самым своим соображениям, он дошел до вывода, что я, как человек неглупый, уже успел увидеть, в чем тут дело, но отступать было поздно.
Надеясь на свои связи, он сейчас же поехал хлопотать к разным влиятельным знакомым и, получив несколько рекомендаций, отправил их с посыльным к Слезкину, тогдашнему представителю Третьего отделения в Москве, приложив к посылке свою визитную карточку и записку, что он приедет поговорить по моему делу на следующий день.
Слезкин, как я узнал потом, встретил его чрезвычайно любезно, заявил, что ввиду таких протекций на мое дело постараются посмотреть сквозь пальцы, хотя оно и серьезнее, чем можно было бы подумать, судя по моему возрасту.
— Но прежде всего его надо разыскать! — сказал он и просил отца содействовать ему в этом для моей же пользы.
Отец ему поверил и обещал помогать, совершенно и не подозревая, какое отчуждающее влияние будет иметь на меня его обещание, когда мне придется потом узнать о нем от допрашивающих меня жандармов.
Но в то время, о котором идет речь, я ничего еще и не подозревал о его хлопотах и переговорах. Я знал только одно, что отцу теперь все известно, а следовательно, и моя семья знает причину моего исчезновения и понимает, почему я им не могу писать. Все это вызвало во мне сначала прилив каких-то смешанных ощущений, в которых трудно было разобраться.
Несмотря на раздачу своего имущества и полную готовность идти с новыми друзьями на смерть, я все-таки чувствовал до тех пор, что предо мной еще не закрыты дороги к влекущей меня по-прежнему научной деятельности.
Я понимал в глубине души, что если я внезапно вернусь в родную семью, то радость всех от моего неожиданного появления заглушит даже и в отце чувство оскорбленной гордости. Если он, как я был уверен, pour sauver les apparences [33] и пригласит меня прежде всего в свой кабинет, чтобы выслушать мои объяснения, а затем дать мне своим сдержанным голосом самую невыгодную оценку моего поведения с его собственной точки зрения, то все же закончит свою речь словами:
— Ну поцелуй меня и более никогда не напоминай об этом!..
Теперь все это было кончено. Дороги к прошлому были отсечены и отсечены не мною, а посторонней силой, помимо моей собственной воли.
Несмотря на свою молодость, я слишком много читал, чтобы не знать, что нигде в мире, за исключением нашей родины, не сочли бы возможным губить всю жизнь человека и посылать его в тюрьму и ссылку из-за того только, что он, получив противоправительственную книжку от своего приятеля, не побежал сейчас же в полицию предать своего друга на распятие, а скрыл книжку у себя или, еще хуже, одобрив ее содержание, дал ее на прочтение другому своему приятелю. Во всей своей жизни и деятельности я не видел ничего такого, за что меня было бы можно сажать в тюрьму.
«Если бы я попался, — думал я, — с оружием в руках в партизанской войне, тогда другое дело. Против оружия каждый имеет право употребить оружие или, захватив врага в плен, заключить его в тюрьму. Но ничего подобного я до сих пор не делал и, даже живя в народе, больше наблюдал и изучал его, чем призывал к борьбе, а между тем теперь для меня уже не оказывается более никакой другой дороги, кроме продолжения той, на которую я только что вступил».
Конечно, в глубине души я знал, что и без этого обстоятельства я не мог бы оставить своих новых друзей, но мысль, что теперь правительство само снимало с моей головы ответственность за горе, которое я причинил семье, и принимало вину на свою голову, была для меня невыразимым облегчением.