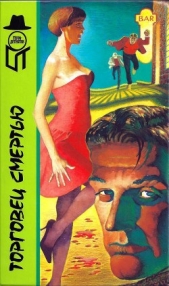Вожделенное отечество

Вожделенное отечество читать книгу онлайн
Роман-хроника о судьбе России ХХ века, о личном опыте автора и общении с отцом Александром Менем и другими знаменательными людьми.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— А похоронили где, у нас в Деревне?
— Конечно...
— А как она умерла?
— Так — умерла...
(Наверное, просто.)
Тётя Клава — на венчаниях! Их, знающих "Положил еси на главах их венцы" и "Исайя, ликуй", — немного, всякий раз две-три, одна из них Клава. Строгость, (До пения — строгость на меня: "Не подведи! Не знаешь — не вылезай, помолчи, а поймёшь — так пой, а то нас двое"). Киваю, порядок известный.
И — ответственный миг — самое трудное: где молодые спотыкаются, а чаще просто не знают напев, а нот — не водится, или, если есть, поётся самостийно, самостихийно, мимо (сквозь) нот, следить можно лишь слова. И — "Положил еси на главах их венцы... от наменяй честных... и дал еси им!"
Трижды.
На второй, третий раз — смелею — и тяну. Отпели — переглядываемся, а Клава обязательно за руку возьмёт крепко:
— Молодец!
Всегда мне хотелось перенять её манеру строить гармонию — она подпирает весь хор снизу — одна, как нижний регистр органа, и хор — если и есть в нем два дребезжащих сопрано — звучит основательно, как хор, и звучит хоралом, органно. Но ходы, какими она ходит, — иной раз непредсказуемы. Думаешь — все поняла (наконец!) — вжилась, сейчас догадаюсь, знаю — и неожиданно тёти Клавин, особенно тёплый, трогательный (до слез!) или строгий, молитвенный поворот — (ас ним и оборот, слегка, глаз в мою сторону: "Слышала? Не на все закон") — парадоксальные эти мелодические движения — так и не изучила, может быть, и не было в них закономерности. Была — тётя Клава, живая, строго-трогательная, трогательно-строгая, которую хотелось всегда обнять, — и пение было — тёти Клавино, уникальное, неповторимое; теперь, с её смертью, навсегда потерянное.
Я сразу почувствовала: чтобы научиться у тёти Клавы (именно: не партии тенора, а — у тёти Клавы), надо в неё вжиться, впиться — и вставала рядом, держала за руку — или под локоть, и так, бок к боку, и в меня тётя Клава входила — и через уши, и — этим боком, и рукою — рукою в руку, плотью в плоть. Голос был — голосоведение --- плоть её, а мне надо было (надо, это знала я, ибо знала, что когда-нибудь не будет возможности прижаться к боку и руку взять в руку) это перенять, этому — внять, понять — до глубины — из глубины. Чему-то я научилась (слава Богу, успелось, прижилось; это — привитие, что-то другое, чем научение), но — не тем, именно особо Клавиным гармоническим ходам. (Смелы: то вдруг возьмёт неожиданно огромный — сексту — интервал, где не ждёшь его; и от этого слезы наворачиваются на глаза, и — восхищаешься ею, а она — строго, зная, что делает. — ведёт дальше). Вела — одна; когда-то была ещё Мария Николаевна — но о ней особый, отдельный рассказ. Вела — одна, потому что этот — поверхностному уху почти и не слышный голос — самый сложный, и мало кто способен вести его. Он не повторяет мелодию, как сопрано. Он составляет гармоническую основу четырехголосия; без него звучит либо плоская — без глубины — терция, либо (коли есть, вдруг, роскошь мужского баса) — между плоской этой терцией и басом — пропасть, дыра, которую — слышно. А "кенар" — заполнение огромной разницы меж сопранным дребезжанием и низким, обертональным басом.
И без баса, тётя Клава всю глубину звучания брала на себя. Послушает её близко новенькая певичка — и отодвинется: поёт бабка каким-то басом, не то, что все, сбивает с мелодии! Тётя Клава и это, думаю, видела — и спокойно и скромно делала своё дело. Она была — мастер, как редкостный ювелир, или зодчий, или строитель органа — который знает, что делает, и знает, что это другим не обязательно очевидно (высота его искусства), но — знает цену своему умению, и — незримо трудится — не ставя подписи под своим творением.
У нас иной раз хвалили — чей-то звонкий такой голос (из высоких). Но это — повторение мелодии, деря глотку, — элементарнее, чем незаметно, не всем слышно, не выделяясь, но гармонизируя общее звучание, от каждой ноты строить "орган". Это сложное творчество, требующее свободы, полной освоенности в контексте четырехголосия. Думаю, у тёти Клавы были и импровизации, от сердца идущие; а сердце её было неизменчиво, и я чувствовала и любила "тёти-Клавин гармонический строй". Такие люди редчайши.
Она и рассказала мне о нашей церкви, как везли её через всю деревню на лошадях — на подводах, как начали, помолясь, покропив бревна, возводить...— И вы помните?
— А как же, мне тогда восемь лет было. — (22-й год.)
Я, Кате:
— Слушай, Катя, как нашу церковь везли; да слушаешь ли ты? Тётя Клава тогда была — девочка, стояла тут и глядела...
— И звёздный купол, и с лестницею — Крест воздвигали. Помню, как первый раз ударил колокол...
Она и пела здесь с восьми лет — быть может, и раньше, в селе Пушкине, — но тут — с самого устроения храма.
"И наш храм никогда не закрывался. Здесь всегда служили."
"Я ещё девчонкой была."
Лицо у неё похоже на грецкий орех — тёмное, морщины глубокие, давние. Сквозь очки — глаза, трогательные — строгие и — готовые заплакать (не плачущие никогда). А строгость и к слезам готовность — знание скорби мира.
Мечта: прийти к ней на могилу — видится: уже тепло, трава (весна, может быть?) — посидеть (с Володей!), и — обязательно выпить (спирт или водку). У неё, у тёти Клавы — надо выпить, помянуть её. Тем утешаюсь.
После написанного.
Великий пост, тёмный, исчерна (чёрные платы и платки) храм. До Пасхи ещё далеко, и от начала Поста далеко — глубь поста. "Господи и Владыко живота..." И — трое выходят — спускаются по двум клиросным ступенькам, — в центр Церкви, перед закрытыми львиноголовыми царскими вратами, чёрной завесой изнутри задёрнутыми (золотом по чёрному). И — в тишине (пока шли, спускались, стали — тишь, сущее молчание) — "Да исправится молитва моя..." Тётя Клава большая, тётя Клава маленькая и — кто-нибудь третий, раньше — несравненная чтица Марья Николаевна, в последние годы — какая-нибудь третья старушка.
На "...молитва..." — тёти Клавино — октаву вниз — и сердце падает с нею, и замирает, и обливается слезами — "моя" — тёти Клавино в протяжении слогов — медленно выводит — одна, на тянущейся ноте — выводит ступеньки, лесенки своей партии, и — до начала "яко кадило" — в молчании её одинокий, строго-скорбный и торжественный голос озвучивает первую ноту, на которую наслаивается жалостная, звенящая дребезгом терция двух верхних голосов — Клавы маленькой и другой, безымянной старушки.
Я — знаю уже и эту тишину, и как тётя Клава в паузе между "моя" и "яко" — одна — одиноко возьмёт где-то внизу, в самой глубине — ниже не бывает, — из нутра мира — ноту, — и заранее, когда они идут к вратам, — начинаю стараться не плакать. И — смотрю, как они поют, и от этого старания и смотрения глаза выворачиваются из орбит, а моргнуть — слезу спугнуть, поползёт по щеке: стыдно. Не мигаю, застываю, и в горле тот самый — многократно в книгах описанный — ком, и — не дышится — пока не запоют "Утренюет бо дух мой" — только тут и можно (слегка!) перевести (отвести) — дыхание и моргнуть (и сморгнуть) — и — с новым вдохом и взором, с телом — абсолютно деревянным, застывшим — внимать, внимать до самых детски-немецких? итальянских? (почти из "любезного пастушка"), но воспринимающихся простонародными, просто — народными, деревенскими, в конце, пассажей — "Но, яко щедр, очисти".
Возвращаются и встают: мы — все оставшиеся скрытыми за хоругвями и огромной иконой клироса — встречаем; без слов — глазами; или — за плечи обнимаем — как после долгого пути. Встреча — всякий раз, как и провожанье — к алтарным вратам, на пение:
"Да исправится" — взглядом, "с Богом"; каждый раз это — рискованное (ответственность!) пение, не пение — делание, служение — пред людьми и Богом. И мы, остающиеся — и провожаем, и ждём обратно — как из морского плавания, из опасного путешествия — и благословляем всякий раз, и — пока идут, выходят — нет, до выхода — за них переживаем; а как пойдут, встанут, раскроют двойной нотный лист (зачем? Ведь знают все наизусть; впрочем — текст: а вдруг — собьёшься...) — уж не до волнения: застылость, глаза, ком — все внутри — неподвижность, предел напряжения, предел, который любое движение (хоть волнение тоже род движения, суеты души) — разрядить могло бы, спугнуть, сломать. А когда вернулись — ох, хочется дышать, вздыхать, обнять — да нельзя: служба идёт далее, нам — петь дальше, или— кланяться со священником, со всем храмом, со всем миром.