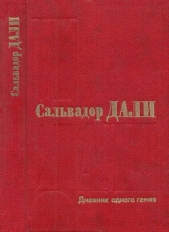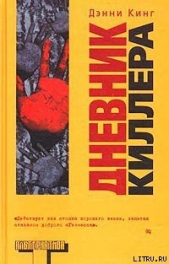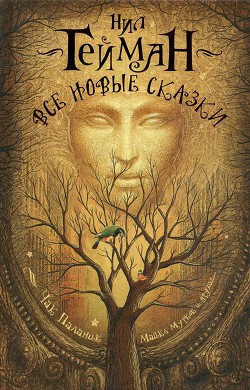Дневник (1901-1929)

Дневник (1901-1929) читать книгу онлайн
Трудно представить себе, что дневник пишут, думая, что его никто никогда не прочтет. Автор может рассчитывать, что кто-нибудь когда-нибудь разделит его горести и надежды, осудит несправедливость судьбы или оценит счастье удачи. Дневник для себя - это - в конечном счете - все-таки дневник для других
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Вернулся домой — у меня был с визитом Кони. Он принес Бобочке книжку — Клавдии Лукашевич.
18 марта. У Гринберга — в Комиссариате Просвещения. Гр.— черноволосый, очень картавящий виленский еврей — деятельный, благодушный, лет тридцати пяти. У него у дверей — рыжий человек, большевик, церковный сторож:
«Я против начальства большевик, а против Бога я не большевик».
Так как я всегда хлопочу о разных людях, Гр. говорит: «А где же ваши протеже?» Я говорю: «Сейчас» и ввожу к нему Бенкендорф. «Хорошо! Отлично! Будет сделано!»—говорит Гринберг, и других слов я никогда не слыхал от него. Я стал просить о Кони — «Да, да, я распорядился, чтобы академику Кони дали лошадке! Ему будет лошадка непременно!».
24 марта. Лидкино рождение. Она готовилась к этому дню две недели и заразила всех нас. Ей сказали, что она родилась только в 11 часов дня.— Я побегу в гимназию, и когда Женя мне скажет, что без пяти одиннадцать, начну рождаться. Колька сочинил оду. Боба — чашку. Я — Всеволода Соловьева. Мама — часы. Будет белый крендель из последней муки.
26 марта 1919 г. Вчера на заседании «Всемирной Литературы» Блок читал о переводах Гейне2, которого он редактирует. Он был прекрасен — словно гравюра какого-то германского поэта. Лицо спокойно-мудрое. Читал о том, что Гейне был антигуманист, что теперь, когда гуманистическая цивилизация XIX века кончилась, когда колокол антигуманизма слышен звучнее всего, Гейне будет понят по-новому. Читал о том, что либерализм пытался сделать Гейне своим, и Аполлон Григорьев, замученный либерализмом, и т. д.
Горький очень волновался, барабанил своими большими пальцами по нашему черному столу, курил, недокуривал одну папиросу, брал другую, ставил окурки в виде колонн стоймя на столе, отрывал от бумаги ленту — и быстро делал из нее петушков (обычное его занятие во время волнения: в день он изготовляет не меньше десятка таких петушков), и чуть Блок кончил, сказал:
— Я человек бытовой — и, конечно, мы с вами (с Блоком) люди разные — и вы удивитесь тому, что я скажу,— но мне тоже кажется, что гуманизм — именно гуманизм (в христианском смысле) должен полететь ко всем чертям. Я чувствую, я... недавно был на съезде деревенской бедноты — десять тысяч морд — деревня и город должны непременно столкнуться, деревня питает животную ненависть к городу, мы будем как на острове, люди науки будут осаждены, здесь даже не борьба — дело глубже... здесь как бы две расы... гуманистическим идеям надо заостриться до последней крайности — гуманистам надо стать мучениками, стать христоподобными — и это будет, будет... Я чувствую в словах Ал. Ал. (Блока) много пророческого... Нужно только слово гуманизм заменить словом: нигилизм3.
Странно, что Горький не почувствовал, что Блок против гуманизма, что он с теми, звероподобными; причисляет к ним и Гейне; что его вражда против либерализма — главный представитель коего — Горький. Изумительно, как овладевает Горьким какая-нибудь одна идея! Теперь о чем бы он ни заговорил, он все сводит к розни деревни и города: у нас было заседание по вопросу о детском журнале — он говорил о городе и деревне, было заседание по поводу журнала для провинции, и там: проклинайте деревню, славьте город и т. д.
Теперь он пригласил меня читать лекции во Дворце Труда; я спросил его, о чем будет читать он. Он сказал: о русском мужике.— Ну и достанется же мужику!— сказал я.— Не без того,— ответил он.— Я затем и читаю, чтобы наложить ему как следует. Ничего не поделаешь. Наш враг... Наш враг...
Волынский на заседании, как Степан Троф. Верховенский, защищал принсипы и Венеру Милосскую... Говорил молниеносно. Приятно было видеть, что этот человек <...> может так разгораться и вставать на защиту святого.
— Это близорукость, а не пророчество!— кричал он Горькому.— Гуманизм есть явление космическое и иссякнуть не может. Есть вечный запас неизрасходованных гуманистических идей...
ВОТ СХЕМА НАШЕГО ЗАСЕДАНИЯ:
Левинсон. Тихонов
ГорькийБлок
Я. Гумилев Гр. Лозинский
Лернер Волынский
Батюшков. Браун.
30 марта. Чествование Горького в Всемирной Литературе. Я взял Бобу, Лиду, Колю и айда! По дороге я рассказывал им о Горьком — вдруг смотрим, едет он в сероватой шапке — он снял эту шапку и долго ею махал. Потом он сказал мне: — Вы ужасно смешно шагаете с детьми, и… хорошо… Как журавль.— Говорились ему пошлости. Особенно отличилась типография: «вы — авангард революции и нашей типографии»… «вы поэт униженных и оскорбленных». Особенно ужасна была речь Ф. Д. Батюшкова. Тот наплел: «гуманист, гуманный человек, поэт человека»—и в конце сказал: «Еще недавно даже в загадочном старце вы открыли душу живу» (намекая на пьесу Горького «Старик»). Горький встал и ответил не по юбилейному, а просто и очень хорошо: «Конечно, вы преувеличиваете… Но вот что я хочу сказать: в России так повелось, что человек с двадцати лет проповедует, а думать начинает в сорок или этак в тридцать пять (т. е. что теперь он не написал бы ни «Челкаша», ни «Сокола»). Что делать, но это так! Это так! Это так. Я вообще не каюсь… ни о чем не жалею, но кому нужно понять то, что я говорю, тот поймет… А Федору Дмитриевичу я хочу сказать, что он ошибся… Я старца и не думал одобрять. Я старичков ненавижу… он подобен тому дрянному Луке (из пьесы «На дне») и другому в Матвее Кожемякине, которому говорили: есть Бог, а он: «Есть, отстаньте». Ему говорили: нет Бога?— «Нет, отстань». Ему ни до чего нет дела, а есть дело только до себя, до своей маленькой мести, которая часто бывает очень большой. Вот»— и он развел руками. Во время фотографирования он сел с Бобой и Лидой и все время с ними разговаривал. Бобе говорил: — когда тебе будет 50 лет, не празднуй ты юбилеев, скажи, что тебе 51 год или 52 года, а все печения сам съешь.
Тихоновы постарались: много устроили печений, на дивном масле — в бокалах подавали чай. Горький сидел между Любовь Абрамовной и Варварой Васильевной. Речь Блока была кратка и маловразумительна, но мне понравилась. Был Амфитеатров. <...>
1 апреля, т. е. 19 марта, т. е. мое рождение. Почти совсем не спал и сейчас чувствую, какое у меня истрепанное и зеленое лицо. <...>
Вчера я случайно пошел в нижнюю квартиру и увидел там готовимые мне в подарок М. Б.— книжные полки. Теперь сижу и волнуюсь: что подарят мне дети. Я думал, что страшно быть 37-летним мужчиной,— а это ничего. Вот пришла Аннушка и принесла дров: будет топить. Вчера с Мережк-им у меня был длинный разговор. Началось с того, что Гумилев сказал Мережковскому: — У вас там в романе4 Бестужев — штабс-капитан.— Да, да.— Но ведь Бестужев был кавалерист и штабс-капитанов в кавалерии нету. Он был штаб-ротмистр.— Мережковский смутился. Я подсел к нему и спросил: почему у вас Голицын цитирует Бальмонта: «Мир должен быть оправдан весь, чтоб можно было жить». Разве это Бальмонт?— Ну да.— Потом я похвалил конструкцию романа, которая гораздо отчетливее и целомудреннее, чем в других вещах Мережковского, и сказал: это, должно быть, оттого, что вы писали роман против самодержавия, а потом самодерж. рухнуло — и вот вы вычеркнули всю философско-религиозную отсебятину. Он сказал: — Да, да!— и прибавил:— А в последних главах я даже намекнул, что народовластие тоже — дьявольщина. Я писал роман об одном — оказалось другое — и (он рассмеялся невинно) пришлось писать наоборот...— В эту минуту входят Боба и Лида — блаженно веселые.— Закрой глаза. Сморщи нос. Положи указательный палец левой руки на указ. палец правой руки — вот! — Часы! У меня наконец-то часы. Они счастливы — убегают. Приходит М. Б., дарит мне сургуч, бумагу, четыре пера, карандаши — предметы ныне недосягаемые. От Слонимского баночка патоки с трогательнейшей надписью.
2 апреля. Не сплю опять. Вчера Горький, приблизив ко мне синие свои глаза, стал рассказывать мне на заседании шепотом, что вчера, по случаю дня его 50-летия, ему прислал из тюрьмы один заключенный прошение. Прошение написано фиолетовым карандашом, очевидно обслюниваемым снова и снова; дорогой писатель, не будет ли какой амнистии по случаю вашего тезоименитства. Я сижу в тюрьме за убийство жены, убил ее на пятый день после свадьбы, так как оказался бессилен, не мог лишить ее девственности,— нельзя ли устроить амнистию.