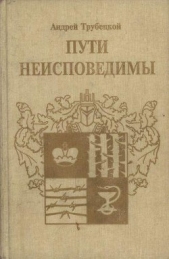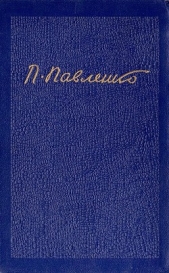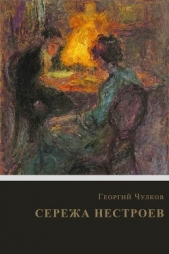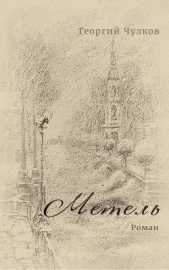Годы странствий

Годы странствий читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Новейшее поколение того времени искало и находило в Мережковском связь с ушедшим поколением. Каждый из нас, встретив Мережковского в Летнем саду[358] на утренней ежедневной прогулке, думал, глядя на его маленькую фигурку, узенькие плечи и неровную походку, что этот человек связан какими-то незримыми нитями с Владимиром Соловьевым, значит, и с Достоевским — и далее с Гоголем и Пушкиным. Пусть Соловьев относился к Мережковскому недружелюбно, но у них, однако, была общая тема, казавшаяся нам пророческой и гениальной. Блок так это чувствовал. Правда, он то и дело «уходил» от Мережковских, но потом опять неизбежно к ним тянулся. Впрочем, тогда все «символисты» и «декаденты» изнемогали в любви-вражде. Все, как символисты, хотели соединяться, и все, как декаденты, бежали друг от друга, страшась будто бы соблазна, требуя друг от друга «во имя», этим знанием «Имени», однако, не обладая.
В доме Мережковских был особого рода дух — я бы сказал, сектантский, хотя они, конечно, всегда это отрицали и, вероятно, отрицают и теперь. Но такова судьба всех религиозных мечтателей, утративших связь с духовной метрополией. Иногда казалось, что Мережковский «рубит с плеча», но когда он, бывало, уличит какую-нибудь модную литературную «особу» в тупеньком мещанстве и крикнет, растягивая своеобразно гласные: «Ведь это пошла-а-сть!», — невольно хотелось пожать ему руку. Как бы ни относиться к Мережковскому, но отрицать едва ли возможно ценность его книг о Достоевском и Толстом и особенно о Гоголе.[359] А в то время эти книги были приняты символистами, и в том числе Блоком, как события.
Мережковский с большим основанием мог бы сказать, как сказал про себя В. В. Розанов:[360]«Пусть я не талантлив: тема-то моя гениальна».
К историческому христианству предъявлены были огромные неоплаченные векселя. Мережковский закричал, завопил, пожалуй, даже визгливо и нескладно, но с совершенною искренностью, о правах «натуры и культуры», о том, что ведь должна же история иметь какой-то смысл, если она тянется после Голгофы две тысячи лет. Холодный, но честный пафос Мережковского и тонкая, остроумная диалектика З. Н. Гиппиус гипнотически действовали на некоторых, тогда еще молодых, а ныне уже вполне сложившихся людей. Иные из них покинули наш бренный мир.
Кружок Мережковских, где бывал и Блок постоянно, состоял из людей двух поколений — старшее было представлено В. В. Розановым, Н. М. Минским,[361] П. С. Соловьевой и др., младшее — A. B. Карташевым,[362] В. В. Успенским,[363] Д. В. Философовым, A. A. Смирновым,[364] В. А. Пестовским (Пястом)[365] и мн. др. Не все в равной мере находились под влиянием Зинаиды Николаевны Гиппиус и Дмитрия Сергеевича, но почти все были в них немного «влюблены».
Полулежа на мягком диване и покуривая изящно тоненькую душистую папироску, З. Н. Гиппиус чаровала своих юных друзей философическими и психологическими парадоксами, маня их воображение загадками и намеками. Несмотря на соблазнительность салонного стиля, в этих беседах была значительность и глубина, и нет ничего удивительного, что Блок был в сетях Мережковских — ускользал из этих сетей и вновь в них попадал. Как же Мережковские относились к Блоку? В последнем, декабрьском, нумере «Нового пути» за 1904 г. появилась статья о книге поэта, подписанная буквою «X».[366] Она, кажется, выражает довольно точно отношение к Блоку обитателей дома Мурузи. «Автор стихов о Прекрасной Даме, — сказано было в статье, — еще слишком туманен, он — безверен: самая мистическая неопределенность его недостаточно определенна; но там, где в стихах его есть уклон к чистой эстетике и чистой мистике, — стихи не художественны, неудачны, от них веет смертью. Страшно, что те именно мертвее, в которых автор самостоятельнее. Вся первая часть, посвященная сплошь Прекрасной Даме, — гораздо лучше остальных частей. А в ней чувствуется несомненное, если не подражание Вл. Соловьеву, не его влияние — то все же тень Вл. Соловьева. Стихи без дамы — часто слабый, легкий бред, точно прозрачный кошмар, даже не страшный и не очень неприятный, а просто едва существующий; та непонятность, которую и не хочется понимать…»
Несправедливо было бы понять этот отзыв, как простое брюзжание «отцов» на «детей». В нем была действительно честная требовательность, справедливое желание подчинять неопределенность какому-то высшему смыслу. И все же Мережковские «влюбились» в Блока и каждый раз страдали от его «измен».
В салоне Мережковских беседы велись на темы «церковь и культура», «язычество и христианство», «религия и общественность». Тема политики в точном смысле стала занимать Мережковских значительно позднее, когда у них завязались противоестественные отношения с социалистами-революционерами. Тогда Мережковские до этого еще не дошли.
Центром внимания в доме Мережковских нередко был В. В. Розанов, впоследствии ими изгнанный из Религиозно-философского общества[367] за политические убеждения и юдофобство. А в то время Мережковский, провозгласивший Розанова гением, увивался вокруг него, восхищаясь каждым его парадоксом. Я помню, в тот вечер, когда я в первый раз увидел у Мережковских Розанова, этот лукавый мистик поразил меня своею откровенностью. В ответ на вопрос Мережковского: «Кто же, по-вашему, был Христос?» — Розанов, тряся коленкой и пуская слюну, просюсюкал: «Что же, сами догадайтесь! От него ведь пошли все скорби и печали. Значит, дух тьмы…»
Юные поэты, окружавшие З. Н. Гиппиус, как пажи королеву, говорили тихо, многозначительно, все чаяли новых откровений и верили, что наступила эпоха «Третьего завета». Блок среди них был «свой» и «чужой», вечно ускользающий. Тут же бывал В. А. Тернавцев,[368] тогда еще не писатель, однако влиявший весьма на мировоззрение Мережковских. Впрочем, впоследствии Мережковские от него отреклись, как отреклись от своего ближайшего друга Розанова.
Был в это время — я говорю про 1904 год — еще один дом, который посещал нередко A. A. Блок. Это — дом Федора Кузьмича Тетерникова (Федора Сологуба). Федор Кузьмич жил на Васильевском острове, в доме городского училища, где и служил в качестве инспектора. Собрания у Сологуба были иного характера. Преобладали не чаяния нового откровения, а поэзия по преимуществу. Все было с внешней стороны по-провинциальному чопорно, но поэты понимали, что за этим условным бытом и за маскою инспектора городского училища таится великий чародей утонченной поэзии.
Но близилась другая эпоха. Декадентские «сенакли»[369] и «тайные общины» под напором внешних событий должны были утратить свой замкнутый, конспиративный характер. Мережковские первые возжаждали «общественности». Однако новые люди, приглашенные в редакцию «Нового пути», прожили мирно всего лишь три месяца. После редакционного кризиса журнал прекратил свое существование. На развалинах «Нового пути», как я рассказывал, возникли «Вопросы жизни».
Этот 1905 год ознаменовался для меня сближением с Блоком, но в этот же год у меня с ним был спор о Влад. Соловьеве. Поводом была моя статья «Поэзия Владимира Соловьева». Печатные возражения на эту статью С. М. Соловьева и С. Н. Булгакова имели свои основания. Возражения Блока были другого порядка. Ему в сущности не было надобности спорить со мною в этом пункте, но он все-таки спорил и, как мне казалось тогда, ломился в открытую дверь. Блок спорил не со мною, а с самим собою. Он боялся тех выводов, на которые я решался, исходя из тех же представлений о Соловьеве, как и он. Драма моих отношений с Блоком заключалась в том, что я всегда старался обострить темы, нас волновавшие, поставить точку над «i», а он предпочитал уклоняться от выводов и обобщений. Это с его стороны не было простою робостью. Он был насквозь лиричен, а из лирики нет исхода. Блок был в заколдованном кругу. А я спешил пройти все этапы тогдашних мыслей и переживаний, интуитивно чувствуя, что лучше все это романтическое зелье выпить до дна и, может быть, впредь не искать жадно опасной чаши. Блок медлил ее выпить, боясь похмелья. Как поэт, пожалуй, он был прав. Если в самом деле «слова поэта суть уже его дела»,[370] Блок исполнял свой подвиг до конца. Таково, должно быть, было его предназначение. Но и я не сожалею о том, что поторопился тогда броситься навстречу опасности. Лично и биографически я был за это жестоко наказан, но зато я преодолел в конце концов и последний соблазн, так называемый «мистический анархизм», сначала принятый Блоком, а потом им отвергнутый — увы! — только на словах. Жизненно, реально, он так и остался «мистиком-анархистом» до конца своих дней, в чем я убедился из беседы с ним в Москве незадолго до его кончины.