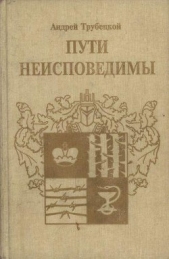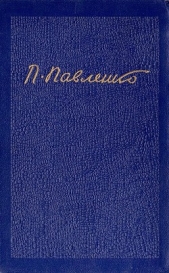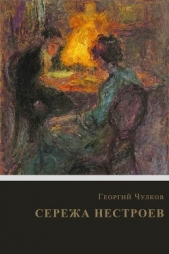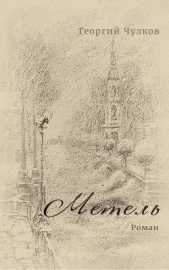Годы странствий

Годы странствий читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Эта тема сближала его с Александром Блоком.[316] Из современных поэтов он любил его больше всех. И это не случайно. Оки оба угадывали что-то в одном и том же потустороннем плане. Правда, Блок был всегда тоньше и значительнее Андреева, и за Блоком была большая культурная традиция. Его поэтическую тему можно найти и у Лермонтова,[317] Фета,[318] Аполлона Григорьева, Владимира Соловьева, и у немецких романтиков — у Новалиса, прежде всего. За Андреевым никакой традиции не было. И корней у него не было. Он пришел как случайный человек, и потому был наивнее Блока. Но я очень хорошо помню, что на первом представлении «Жизни человека» в театре В. Ф. Комиссаржевской[319] поэт восхищался пьесою Андреева, хотя позднее мнение его на этот счет решительно изменилось.[320]
Да, у Леонида Николаевича было это болезненное самоубийственное уклонение от той правды, которую он смутно предчувствовал в своих полупрозрениях вечно женственного начала. И отсюда — эта хмельная грусть, эта горькая улыбка над собою и над миром. Осмыслить историю и вообще подлинную жизнь человекаон не мог и не хотел. Он как будто боялся даже всякой попытки найти в жизни и в мире смысл, мудрость и путь. В одном из писем ко мне у Андреева вырвалось такое признание: «Куда я иду? А черт меня знает куда. Иду, и все тут».
У него было даже прямое отвращение к нашим современникам, которые пытались и пытаются строить цельное мировоззрение. Истории философии Леонид Николаевич не знал и философией никогда не занимался, но было одно исключение — это Шопенгауэр.[321] Он его прочел еще в юности, и шопенгауэровский пессимизм пришелся ему по душе.
III
Я уже говорил, что знал Л. Н. Андреева почти двадцать лет, но иногда мы годами с ним не виделись: то я жил за границей, то он куда-нибудь уезжал, но в иные годы мы встречались с ним довольно часто, особенно мне памятны два лета в Финляндии. Мы встречались с ним иногда на даче у покойного В. А. Серова,[322] а одно время Леонид Николаевич почти ежедневно бывал у меня. Я жил тогда как раз недалеко от того местечка, где он выстроил себе впоследствии виллу. Строил он ее по плану одного молодого архитектора, и сам принимал живейшее участие в разработке этого плана. И в самом деле дом вышел совсем в духе хозяина. Что-то в нем было мрачно-романтическое, в художественном отношении весьма сомнительное, и стиля его определить нельзя было никак, но — надо признаться — в нем было своеобразие, присущее и самому Андрееву. Было в нем холодно и неуютно. Не хотел уюта Леонид Николаевич. И особенно после смерти своей первой жены он был всегда в каком-то беспокойстве — даже тогда, когда вторично женился и у него родились дети от второй супруги.
Но, несмотря на свою романтическую мрачность, Леонид Николаевич в иных отношениях был как-то ребячлив, и занимали его какие-то пустяки, какие-то игрушки. То он увлекался цветной фотографией, то дилетантски копировал какие-нибудь репродукции с художников и, кажется, гордился своей работой, то, наконец, завел себе моторную лодку и в костюме моряка забавлялся маленькими путешествиями.
В литературе Андреев был так же бесприютен и одинок, как и в жизни. Издавался он в «Знании»[323] Максима Горького, потом в «Шиповнике»,[324] потом кое-что издал в «Издательстве писателей»,[325] но своего литературного круга у него не было. Везде он был случайным гостем и внутренне ни с кем не был связан. Напечатал он рассказ и в «Факелах»,[326] но, когда вышел альманах, был альманахом недоволен: в альманахе преобладали символисты, а их он боялся: они казались ему слишком рассудочными, слишком искусственными и холодными. Он только для Блока делал исключение и знал его некоторые стихи наизусть.[327]
Прочих современных поэтов он не ценил и не любил. Вот что он мне писал однажды с пристрастным раздражением и с явною запальчивостью: «От последних Северных цветов (ассирийских),[328] которые я увидел только теперь, пахнет потом невыносимо. И как они не поймут, что раз все они только похожи друг на друга, то, стало быть, один из них только прав, а остальные лгут. Какие-то парикмахеры от искусства, которые весь мир завивают, как пуделя, Бога, как пуделя — черт в завитушках — все в завитушках. И завитушки мелкие, и слова маленькие-маленькие — какое-то вырождение слов. Такие маленькие. И недаром печатаются они мелким шрифтом — крупный для них невозможен. А что они сделали с любовью! Чем больше поют они про ее силу, величие, мистичность, тем ничтожнее, слабее, глупее становится она. Поэты — они убивают поэзию. Жужжащие мухи с тысячью взмахов крыла в секунду — они заставляют забыть об орлином полете. Какое бессилие!» И далее: «Они убивают поэзию. В России нет больше стихов».
В Финляндии мы иногда гуляли с ним по окрестностям. На прогулках он обыкновенно нервно курил папиросу за папиросой и неумолчно говорил о своих замыслах и планах. Он любил, по-видимому, импровизировать, рассказывая о своих будущих повествованиях. Иногда с мнительною робостью он посматривал на собеседника, не скучает ли тот, но перестать рассказывать ему было, видно, трудно.
В существе своем он был простодушен и добр. И задних мыслей у него никогда не было. Он шел ко всем с открытою душою. И, когда чувствовал холодность или скептицизм, совсем поникал.
Очень болезненно он относился к враждебной критике, которая за последние годы не скупилась на порицание его произведений. Он был избалован похвалами, которые ему большинство расточало на первых порах его деятельности, и жадно искал внешней поддержки. Но ее не было, и он чувствовал себя как в западне.
Так жил Андреев двойней жизнью. С одной стороны, большая семья, много знакомых, издатели, критики, репортеры, актеры и какие-то бесконечные случайные посетители: тут было много забот и суеты. С другой стороны, та внутренняя мучительная тревога, слепая и угрюмая, которая его терзала: тут одиноко сгорала его душа.
Однажды я пришел к Андрееву, когда он жил в Петербурге в большом доме на Петербургской стороне. Меня встретила его матушка и шепотом сообщила, что Леонид «заболел». Это значило, что он во хмелю. Я хотел было уйти, но Андреев услышал мой голос, вышел и повлек меня к себе в кабинет. Перед ним стояла бутылка коньяку, и он продолжал пить, и было видно, что он пьет уже дня три. Он говорил о том, что жизнь вообще «дьявольская штука», а что его жизнь погибла: «ушла та, которая была для него звездою».[329]«Покойница!» — говорил он шепотом таинственно и мрачно. Потом он опустил голову на стол и заплакал. И опять тот же таинственный шепот и бред. Вдруг он замолчал и стал прислушиваться, обернувшись к стеклянной двери, которая, кажется, выходила на балкон. «Слышите? — сказал он. — Она тут». И снова начался мучительный бред, и нельзя было понять, галлюцинирует он в самом деле, или это все понадобилось ему чтобы выразить как-нибудь то загадочное и для него самого непонятное, что было у него тогда в душе.
* * *
Я пишу эти строки в январе 1920 года. Мы теперь знаем, что многие события русской культурной жизни накануне революции имели особый смысл, вещий и значительный. Мы любили повторять, что Россия, культурная Россия, еще молода; мы, утомленные политической реакцией последних царствований, как-то не замечали, что духовная культура страны, несмотря на ветхие формы государственности, достигла своих вершин, что появление так называемых декадентов вовсе не случайно, что они — подлинные вестники культурного перелета. Такие благоуханные, но ядовитые цветы могли вырасти лишь на почве большой, себя пережившей культуры. Декаденты поработали немало над умами и сердцами современников: «Нет никаких безусловных ценностей. Все относительно. Посмеяться можно над всем. Да и святынь никаких нет. Недурно было бы вообще все послать к черту». Это было все сказано очень тонко и остроумно, а иными и не без демонической глубины. Леонид Андреев повторял то же самое, но при этом огорчался, скорбел и плакал: ему было жаль человека. Он бунтовал, как декадент, но бунт его был какой-то женский, истеричный и сентиментальный. Менее тонкий, чем поэты-декаденты, он был, пожалуй, более характерен и определенен для нашего культурного безвременья, чем они. И как личность Андреев мне всегда представляется не столько отравителем современного ему поколения, сколько жертвою: его самого отравили и замучили те странные темные силы, которые незримо вошли в нашу жизнь и разложили ее.