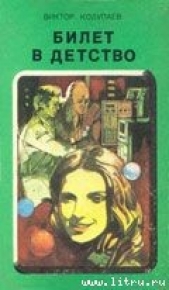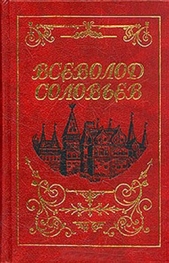Воспоминания о людях моего времени
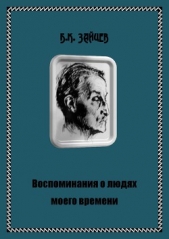
Воспоминания о людях моего времени читать книгу онлайн
Автор не претендует на полноту, а просто делится тем, что осталось в памяти, душе, преломившись чрез призму прожитых лет.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Победители не пишут так. Что-то пронзало, убивало. И в тоске своей вы правильно почувствовали, Александр Александрыч: поздно было уж сходиться.
В последний раз Блок приезжал в Москву весною 1921 года.
Слава его была значительна, его много читали, даже много и покупали (в Книжных лавках писателей). Много печатали. Дошло до того, что одно издательство объявило подписку на собрание детских стихов Блока (в детстве написанных).
Сколько мне помнится, эта глупость не удалась. Но все равно Блок считался признанным, прошедшим в публику и начинающим стареть.
Читал он в нескольких местах. Союз писателей устроил вечер в честь его.
Союз наш — старый особняк. Дом Герцена на Тверском бульваре, во дворе, в саду. Уютное и мягкое, покойное осталось в памяти от двух зал, большой, с библиотечными шкафами и диванами, колоннами у двери, и от малой, с креслами удобными, столом огромным, тоже книжными шкафами, бюстом Пушкина.
На вечер Блока собралось много народу. В первом отделении читал Чуковский, в малой зале, а потом подъехал Блок. В глубине большой залы он стоял у раскрытого в сад окна. На темной зелени яснее выступала голова знакомая, огромный лоб, рыжеватые волосы. Вокруг кольцо девиц и литераторов. Чуковский кончил. Мы позвали Блока, он вошел, все аплодировали. Но какой Блок! Что осталось в нем от прежнего пажа и юноши, поэта с отложным воротничком и белой шеей! Лицо землистое, стеклянные глаза, резко очерченные скулы, острый нос, тяжелая походка, и нескладная, угластая фигура. Он зашел в угол, и, полузакрыв усталые глаза, начал читать. Сбивался, путал иногда. Но «Скифов» прочел хорошо, с мрачною силой.
И в этой вещи, и в манере чтения, и в том, как он держался, была некая отходная: поэзии своей, и самой жизни. Вот человек, — казалось, — из которого ушло живое, и с горестным достоинством поддерживает он лишь видимость.
Он был уж тяжко болен. Но думаю, что не в одной болезни было дело. Заключалось оно в том, что не хватало воздуха. Прежде тоска его хоть чем-то вуалировалась. После «Двенадцати» все было сорвано. Тьма, пустота.
В тот же приезд Блок выступал в коммунистическом Доме печати. Там было проще, и грубее. Футуристы и имажинисты прямо закричали ему:
— Мертвец! Мертвец!
Устроили скандал, как полагается. Блок с верной свитой барышень пришел оттуда в наше Studio Italiano. Там холодно, полуживой, читал стихи об Италии — и как далеко это было от Италии!
Он прожил после этого недолго. Страдальчески прошли последние его месяцы. Теперь он был обставлен материально уж неплохо, кажется. И разрешили ему ехать лечиться (раньше не позволяли) — было поздно. В августе на Никитской, в окне нашей Лавки писателей, появился траурный плакат: «Скончался Александр Александрович Блок. Всероссийский Союз Писателей приглашает на панихиду в церкви Николы на Песках, в 21/2 часа дня». Этот плакат глядел на юг, на солнце. На него с улицы печально взирали барышни московские.
В 21/2 часа дня о. Василий, в сослужении с о. Ник. Бруни, молодым священником-поэтом, отслужили панихиду в ясном, солнечном дне августовском — по «безвременно скончавшемся» поэте.
Так он ушел. Его уход вызвал в России очень большой отклик (заседания, собрания, статьи. Отличились и тут имажинисты — устроили издевательские поминки, под непристойным названием. Пожалуй, Блок был любимейшим из писателей последних лет. Многие хоронили в нем часть и себя, своей души — повторяю: Блок выражал собою полосу России. Эта полоса кончалась с революцией, умирал «блокизм» — ибо ничего не мог противопоставить напору революции. «Блокизм» расплывчат и тепличен, нездоров, некрепок, и ничем активным не обладает.
Он истек «клюквенным соком» (крови настоящей не было!).
Да как могло быть и иначе, когда сам его создатель сдался, повалился в «Двенадцати»?
По смерти Блока появилось множество статей, воспоминаний, книг. Неумеренные почитатели печатают теперь такое из его писаний, что, пожалуй, не весьма его порадовало бы. Как отнестись к этому? Заметки из записной книжки, строки, которых Блок не отдавал сам в печать, сейчас, однако, появляются. Раз напечатаны, мы вправе обсуждать их.
И один отрывок — величайшей важности для понимания Блока. Набросок пьесы из жизни Христа («Русский соврем.»). Может быть, Блок сам почувствовал, что нехорошо говорить об Иисусе: «ни женщина, ни мужчина», о св. Петре «дурак Симон с отвислой губой» или «все в нем (Иисусе) значительное от народа», «апостолы крали для него колосья» — все-таки написал. Это, скажем, не литератyра. Но… что же, и не Блок? Увы, именно Блок, и помечено: 1918 г. Блок эпохи «Двенадцати». Вот еще новый поворот, новый свет на загадочную поэму. Вот в каком настроении она создавалась. Что же, «настоящий» Христос вел «Двенадцать» или блоковский, «ни женщина, ни мужчина», у которого «все значительное от народа»? Я говорил уже, что настоящий Христос вовсе не сходил в поэму. А теперь видно, какого Христа Блок пристегнул к своему писанью. Вот это значит-то: «компилятивный».
Так что здесь новое свидетельство о тяжком обострении давней болезни души Блока — погубившей его.
Я чувствую, что это надо написать, и все-таки писать мне грустно. В общем, вспоминая Блока, больше вижу его молодым, мечтательным, в низком отложном воротничке, слышу его стихи, пронзающий шарм их:
Куда бы ни зашел Блок, и чего бы ни наделал, как бы жизнь свою ни прожигал, туманил, иногда грязнил — в нем было то очарование, которое влекло сердца и женские, и мужские, та печать, что называется «избранничеством». Хотелось бы, чтоб именно такой, которому дано не скупо, выдержал бы, пришел к Истине, победил. А он не выдержал. Жизненный бой проиграл. И побежден. Что же из этого? Показан нам облик печальный, может быть, даже трагический. И Данте находился in unа selva oscura [6] и лишь любовь Беатриче, пославшая ему Вергилия, вывела из тьмы. Данте сам сильно любил. Ему и была дана помощь. В Блоке страстности, пылания никогда не было, и вышло так, что за него не заступилась та Прекрасная Дама, которой он изменил. Но тут уж мы подходим к тем истокам судеб, о которых не дано нам судить.
Здесь, в Провансе, часто вспоминаю вас, Александр Александрыч. Это край, и тот пейзаж, где жил Петрарка, где старинные труверы пели, край Лауры. Все это вам близко — вам, автору «Розы и Креста».
Когда идешь, пред вечером, по гребню гор, среди душистых сосен, а внизу разостланы долины, взгорья, хвойные леса, оливковые рощи и рыжеющие весной виноградники, фермы с задумчивыми кипарисами, вдали белеющие городки с храмами древними, и дальше все нежней и шире раздвигаются холмы, и тонкий, голубеющий свет разливается над всем — когда спокойно видишь чистый и изящный край, пронизанный благословенным солнцем, когда так один в горах, то… часто чувствуешь ваш облик, наш поэт. Быть может, это странно, и не нужно: кажется, показать бы вам вот этот светлый Божий мир. Дать бы глазам вашим, замученным туманами, болотами, снегами, войнами и бойнями, — взглянуть в голубоватые дали Прованса, светом и благоуханием смолистым вам омыть бы душу, как омыл лицо росой Чистилища при выходе из Ада Данте, — и вы вспомнили бы о Прекрасной Даме, вырвали б раз навсегда, слова кощунственные. Вы бы дышали Истиной, она бы оживила вас.
Но это все напрасные слова. Вас нет. Мы все — души Чистилища.
Из светлого Прованса хочется послать вам ток благоволения, благожелания. На этом свете не пришлось нам сблизиться.
АНДРЕЙ БЕЛЫЙ