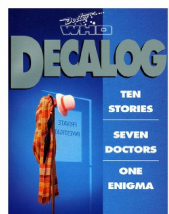О времени и о себе. Рассказы.

О времени и о себе. Рассказы. читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
На траве в маленькой кучке копошились какие-то неземные существа. Некоторые в изнеможении лежали без движения… Прах, тлен, да и только. Лица, руки, тела их настолько были худы, что даже не верилось, что в них еще теплится жизнь. Косточки, чуть покрытые кожицей, выступали в суставах острыми углами. Глубоко запавшие глаза выражали безразличие и отрешенность. Спутанные отросшие волосы закрывали лица. Какие-то пятна и короста покрывали их тела. Одежда висела, как на колышках. По одинаково сморщенным беззубым лицам невозможно было определить ни пол, ни возраст. Все казались маленькими древними старичками. На самом же деле их возраст был от восьми до четырнадцати лет. Это ужасающее зрелище тронуло женские сердца, люди не выдержали, и, многоголосый плач с причитаниями слился в единый стон. Первыми были взяты в госпиталь дети, лежавшие без движения, затем очередь пошла по списку. У каждого ребенка на руке была маленькая белая повязочка, а на ней порядковый номер и имя.
И больше никаких сведений, все отдавалось на волю судьбы.
Подошла наша очередь. Мама прочитала на руке ребенка: номер одиннадцать и имя Вера, взяла ее на руки. Мы окружили их и начали решать, что делать дальше. Решили: нужна тележка. У своих сверстников в пристанционном поселке я раздобыл такую. Осторожно уложив Веру на подостланную одежку и обложив ее со всех сторон соломой, мы двинулись в путь. Ехали тихо. Всю дорогу мама только и повторяла: «Потише! Потише! Не трясите! Не трясите!» Перед ухабами крестилась и шептала: «Господи, помилуй! Господи, помилуй!» По дороге мама уже обдумала весь дальнейший план действий. Дома в первую очередь напоила Веру с ложечки теплым молоком. Потом остригла ее ножницами под гребешок, сняла одежонку и велела ее сжечь на огороде. На большой горячей русской печи в корыте вымыла Веру и уложила там же спать, а нас заставила по очереди дежурить около нее и ждать, когда она проснется. На другой день опять — молоко и жидкая кашица. И так каждый день, недели две. По вечерам мама подолгу просиживала около Веры, читала разные молитвы, кропила святой водой. Русская женщина, мать семерых детей, знала, что нужно делать.
Мы стали замечать, что цвет лица у Веры начал меняться из землистого в телесный. Однажды утром у нее проявился голосок. Вера попросилась на двор. Мы несказанно обрадовались этому событию: значит, дело пошло на поправку, но до человеческого облика было еще далеко. Родные наши, близкие, знакомые, соседи при встрече с нами непременно справлялись о здоровье Веры, а узнав, что она поправляется, понесли ей гостинцы: яичко, стаканчик сметаны, оладышки, кто что может. Люди с глубоким сочувствием, близко к сердцу принимали Ленинградскую трагедию и вносили каждый свою лепту в общее дело.
А время двигалось. Появилось желание поговорить. Мы охотно разговаривали с ней и отвечали на ее вопросы. Мама, учитывая наше детское любопытство, строго-настрого наказала: «Вере никаких вопросов о родителях не задавать. Не бередить детскую душу!» И мы добросовестно соблюдали этот наказ, даже не смели спросить, сколько ей лет. Подошла осень. Мы, ребятня, отправились в школу. Вера, оставаясь одна, затосковала. Мама и тут нашла выход. Стала приглашать детей, учившихся во вторую смену. И они шли. Играли, стараясь развеселить и успокоить ее. Наступила зима 1944 года. Одежду принесли опять те же милосердные люди. А спать Вера перебралась с печи под наше общее одеяло и чувствовала себя вполне уютно. Спокойная обстановка, режим питания делали свое дело. Заехавшие из госпиталя врачи дали заключение, что к весне Вера будет нормальным человеком.
Весна не заставила себя долго ждать. Вера почувствовала прилив сил. Стала все больше интересоваться фронтовыми новостями и спрашивать взрослых, как живет Ленинград. Детское сердечко, видно, болело за свой город, за родных, оставшихся в блокаде.
На лето Веру взяли в бригаду молодых доярок, таких же, как и она, эвакуированных, учетчиком молока. К этому времени ей исполнилось 15 лет. Выглядела она уже серьезной, представительной девушкой. Округлились плечи, ноги приобрели стройность. Ничто уже не напоминало, что это человек, «вставший из тлена». На вечерах в клубе местные парни считали своим долгом пригласить ее на танец. В свободные минутки Вера прибегала в наш дом, целовала маму, обнимала нас как родных братьев и сестер, чаевничала за нашим столом и все торопила события на фронте.
1944 год. С 11 января по 1 марта фронт отступил от Ленинграда в сторону запада на 280 километров. Город окончательно освободился от блокады, но лежал в руинах, и въезд в него еще не был разрешен. Прошел еще год. Наступил день Победы. Эвакуированные, как перелетные птицы, начали группироваться и готовиться к отлету в родные края. Заговорила об этом и Вера. В Бутурлинском военкомате ей помогли найти троих земляков-ровесников из той же группы, пожелавших вернуться домой. Из 20 человек, как потом выяснилось, 16 живы и здоровы, а четверо умерли по известной всем причине.
В середине лета в день отъезда в общежитии доярок, где жила Вера, царил праздник. Играла гармошка. Был накрыт стол. Все принаряженные, веселые. Сопровождавший военный произнес тост: «За Победу! За хорошее будущее!» Провожающих набралось полное общежитие. Среди них и двенадцать детей, пожелавших остаться, окрепших и повзрослевших. Все несли памятные прощальные подарки. Тут и деньги, и одежда, и продукты. Чемоданы и узлы до станции пришлось везти на подводе. Опять та же лужайка, как и два года назад. Только на этот раз прощание, душевное и трогательное. Поцелуи, наказы, обещания писать, писать. Слезы благодарности на глазах сироток-детей. И слезы грусти.
Шли годы. Первые десять лет связь с Верой регулярно поддерживалась, пока живы были наши родители. Даже раза два приезжала повидаться с нами и со своими ровесниками-ленинградцами, оставшимися в районе. В пространных и сердечных письмах сообщала о своих и радостях и бедах. Писала, что родителей в живых никого не осталось. Дом разрушен. Квартира разграблена. Устроилась на завод «Вулкан», это рядом со стадионом имени Кирова. Живет в молодежном общежитии. Активистка. По своему желанию пошла на вредное производство. Позже письма стали приходить реже и более скорбные. Семья не сложилась. Врачи определили бесплодие. Сказалась все-таки проклятая блокада. Опять пришлось жить одной в квартире, и письма опять стала подписывать своей девичьей фамилией Серебренникова. Приглашала в гости. Но жизненные ветры развеяли и нашу семью по разным направлениям, а поддерживать связь становилось все труднее.
В последнем своем письме лет пять тому назад Вера жаловалась на сильные головные боли и сообщала о своем желании переехать жить в деревню к своим дальним родственникам.
Больше на наши письма ответов не было.
И вот пришла печальная весточка от ее соседей по квартире: прах Веры покоится на Пискаревском кладбище, где до сих пор хоронят переживших блокаду ленинградцев… На нижегородской земле остались друзья — ровесники Веры, породнившиеся с нашей областью. К сожалению, мне неизвестно, где они живут. Восточная мудрость гласит: «Друзья моего друга — это мои друзья». Как бы хотелось увидеть вас, дорогие мои ленинградцы, встретиться с вами.
Отзовитесь!
Хлебушко
Весна 1943 год. «Мама! Мама! А он хлеб без довеска принес! Опять, наверно, съел!» — ябедничала младшая сестренка на меня. Я, действительно, его съел, как сладкий долгожданный пряник, сразу же после получения его из рук продавца в совхозном магазине. Этот маленький кусочек, довесок к общей норме, по негласной договоренности принадлежал тому, кто в этот день выстоял несколько часов в очереди, ожидая привоза хлеба. Возили его на лошади в большом деревянном ящике из районной пекарни. Выгружали в магазин через окошечко особо доверенные пожилые женщины. Бережно перекладывали из рук в руки по цепочке, каждый раз определяя его вес и качество.
А хлеб был непомерно тяжелым и черным — на восемьдесят процентов состоящим из картофеля, овсяной муки и дуранды. Один кирпичик весил более четырех килограммов. На рабочего полагалось полкило, на иждивенца — 250 граммов. Наша семья из шести человек получала ежедневно полбуханки. Норма эта, введенная осенью 1941 года, сохранялась до 1947 года, и только в зиму 1948 года появился первый коммерческий хлеб. Если в колхозах на трудодень еще выдавали какое-то количество зерна, то в совхозах это было не положено. Поэтому каждый взрослый и ребенок получали карточку. Голубенький маленький листочек бумаги берегли как зеницу ока, хранили в сундуке или за божницей. Не дай Бог потерять, оставить семью на целый месяц без хлеба — такое равносильно было утере целого состояния.