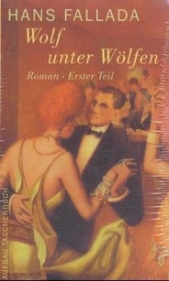Разговор с Анатолием Рыбаковым

Разговор с Анатолием Рыбаковым читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Рыбаков: Наверное, понравилось, если он сказал: “Лучшая книга года”.
Волков: Вы согласитесь со мной, что решающим для Сталина фактором, наверное, было то, что ему роман понравился? А дальше уже были сталинские игры, типичные для него шуточки?
Рыбаков: Да, обычные его игры. Вы знаете, в сталинском характере была манера огорошивать людей своей осведомленностью. Вот никто не знает, а он знает. Пришла какая-то телега на меня, по-видимому, помимо органов. Или пришла в органы, и они передали ее Сталину. Я даже приблизительно догадываюсь — откуда этот донос, но не могу говорить об этом, потому что это не точно. Догадка моя основывается вот на чем: сама информация обо мне была неверной. Если бы она шла от органов, они могли бы заглянуть в мое дело — там все ясно написано.
Волков: Значит, кто-то просто настучал в индивидуальном порыве. От любви к вам, что называется.
Рыбаков: Да, кто-то настучал. А Сталину этот донос в последний момент Берия передал. А может, даже не через Берию это шло, может, через секретариат Сталина, через Поскребышева. И бац, Сталин всех огорошил: “Вот вы рассуждаете, читаете, заседаете в Комитете и ничего не знаете, а перед вашим носом контрреволюционер пишет книги”. Потом второй раз огорошил — я уже все знаю: “информация оказалась неточной”.
Волков: А ведь на сегодняшний момент вы, наверное, могли бы заглянуть в собственное досье? И посмотреть, что же там понаписано?
Рыбаков: Я смотрел, когда меня реабилитировали. В 60-м году. До меня добрались поздно, поскольку рано посадили. Понимаете, в 56-м, после двадцатого съезда, начали сразу реабилитировать тех, кого репрессировали в тридцать седьмом году, затем пришла очередь тридцать восьмого, затем послевоенных лет, ближайших, и, когда добрались до тридцать третьего года, уже был шестидесятый год. Когда я пришел в Прокуратуру военную, я сказал: “Покажите мне мое дело”. Они говорят: “Ну, зачем вам разочаровываться в человечестве?” Я говорю: “Ну а чего ж? Я — писатель, мне это интересно”. И они дали мне дело. Я его прочитал. И что в результате? Дело было пустое, ни на чем не основанное. Там были ошметки того, что произошло еще в школе. Донос из института: о стенгазете, которую мы выпустили (об этом я в “Детях Арбата” рассказал), и о том, что во время дискуссии я выступал как бы примиренчески по отношению к троцкистской оппозиции — мне было тогда шестнадцать лет, в общем такая вот сборная солянка. Потом, уже в Москве, приходил ко мне человек, который был со мной в ссылке и заводил какие-то странные разговоры. Я отшил его очень быстро, но, видимо, он тоже подстучал. Отголоски этой истории есть в рассказе Глеба в моем романе “Прах и пепел”. Да, несколько знакомых фамилий я в своем досье увидел. Ну что с них взять? Все ерунда!
Волков: А как факт присуждения премии сказался на вашем положении внутри Союза писателей? Что значило в те дни получить Сталинскую премию?
Рыбаков: Мне не повезло с премией. До пятидесятого года, когда давали Сталинскую премию, все издательства страны обязаны были премированную книгу выпустить: Лениздат, Горьковское издательство, Саратовское, Пензенское, Воронежское и так далее. И все издательства выплачивали деньги. Но как раз в пятидесятом году вышло постановление: издания не дублировать. Книгу должно издать одно издательство, пусть большим тиражом, пожалуйста, но только одно. А так — лауреат и лауреат. Вот и все.
Волков: Сразу, небось, завистников появился легион?
Рыбаков: Не думаю, у интеллигенции, понимающей и читающей, отношение к премиям было довольно пренебрежительное. Они считали, что эти премии получают или аппаратчики, секретари, или те, кто пишет на нужные темы. Скажем, какой-то там Попов написал о сталеварах — “Сталь и шлак”…
Волков: Я помню ту “Роман-газету”. Даже пытался Попова прочитать…
Рыбаков: Какой-то Мальцев написал о колхозниках, какой-то Рыбаков о шоферах. Вот такое отношение… Ничего особенно не изменилось.
Волков: Я тогда мальчишкой еще был, но все же помню, что в те дни, когда “Правда” выходила со списком лауреатов Сталинской премии, все рвали эту газету из рук: кто получил?! Надо сказать, что лауреатами Сталинских премий стали многие талантливые, даже гениально одаренные люди. Сейчас об этом как-то забывают, но Шостакович получал эту премию пять раз! Прокофьев получал шесть раз, в том числе за такие изощренные свои сочинения, как Пятая симфония, фортепьянные и скрипичные сонаты. Шостакович получил за фортепьянный квинтет, за фортепьянное трио. Это камерная музыка, она еще и сегодня весьма сложна для восприятия, а уж тогда… В смысле изощренности ее можно сопоставить с романами Набокова. Вообразите — роман Набокова получает Сталинскую премию в 1945 году! А трио Шостаковича для меня — произведение ничуть не менее авангардное, чем, скажем, “Камера обскура”. И вот, представьте себе, я читаю не так давно опубликованное выступление Фадеева на заседании Комитета по Сталинским премиям в 1945 году, где он говорит о фортепьянном трио Шостаковича: “Это произведение захватывает, это выдающееся произведение”. Вообще, для меня Фадеев как ценитель культуры — загадка. Я читал его невероятно чуткие дневниковые записи о финале Пятой симфонии Шостаковича, сделанные сразу после ее премьеры в 1937 году. Тогда многие критики писали, что в этой музыке выражено торжество социализма. А Фадеев записал, что он слышит не торжество или победу, а трагедию. И, конечно, прав был Фадеев, а не музыканты. Поразительно!
Рыбаков: Да, Фадеев был очень умный человек. Сталин его любил, прощал ему даже длительные запои, когда он исчезал и его нигде нельзя было найти. Потом Фадеев опять появлялся — высокий, седой, красивый и мгновенно включался в бурную административную деятельность. Рассказывали такую историю. Будто бы после одного из таких исчезновений Сталин вызвал его к себе: “Как долго, товарищ Фадеев, у вас это продолжается?” — “Три недели, товарищ Сталин”. — “А нельзя ли подсократиться и укладываться в две недели? Ступайте и подумайте об этом”. Сталин знал, что Фадеев за него пойдет в огонь и воду. Потому и прощал ему загулы.
Волков: Меня в Фадееве вот что удивило. Те фрагменты стенограмм заседаний Комитета по Сталинским премиям, которые были опубликованы, создают впечатление, что там шла настоящая борьба. К примеру, те же обсуждения музыки Шостаковича. Выступает актер Мордвинов и говорит: “Это формализм, за это премию давать нельзя”. А Фадеев ему возражает. Я не знаю, искренне он говорил или нет. Может, он хотел Сталину понравиться и показать широту своей натуры? Может, он уже заранее знал, что Сталин даст Шостаковичу премию? Если когда-нибудь протоколы этих заседаний будут полностью опубликованы (а они, определенно, будут когда-нибудь опубликованы), это станет большим сюрпризом. У меня к вам такой вопрос: действительно ли имела место подлинная дискуссия на том уровне? Как я понимаю, ведь это все происходило в присутствии Сталина?
Рыбаков: Техника раздачи Сталинских премий была такова: существовало два Комитета. Один Комитет по литературе и искусству, другой — по науке и технике. У каждого был председатель. В Комитете по литературе и искусству председателем был Тихонов, председателем Комитета по науке и технике бывал обычно президент Академии наук. В Комитете были секции, например в тихоновском — секции литературы, музыки, театра, кино, оперы и балета, изобразительного искусства. Во главе каждой секции стоял какой-то крупняк. Право представления на премию имели творческие Союзы и организации. Театры имели право представить, издательства, журнал имел такое право. Сначала это разбиралось в секциях, от них очень много зависело: зарубят — и все! Но если секция отбирала произведение, оно шло на пленум Комитета, там тоже отбирали и представляли уже полный список правительству. И тогда Сталин смотрел — кому давать, кому не давать, кого переместить с первого на второе место и так далее…