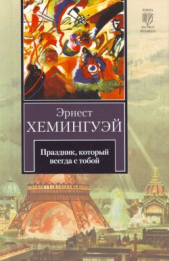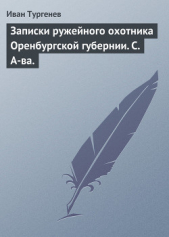Улица генералов. Попытка мемуаров

Улица генералов. Попытка мемуаров читать книгу онлайн
Имя Анатолия Гладилина было знаменем молодежной литературы периода «оттепели». Его прозу («Хроника времен Виктора Подгурского», «История одной компании») читали взахлеб, о ней спорили, героям подражали. А потом… он уехал из страны, стал сотрудником радиостанции «Свобода».
Эта книга о молодости, которая прошла вместе с Василием Аксеновым, Робертом Рождественским, Булатом Окуджавой, о литературном быте шестидесятых, о тогдашних «тусовках» (слова еще не было, а явление процветало). Особый интерес представляют воспоминания о работе на «вражеском» радио, о людях, которые были коллегами Гладилина в те годы, — Викторе Некрасове, Владимире Максимове, Александре Галиче…
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Все происходит наоборот. Во-первых, все, кто могли, не явились. Нет Катаева, нет Володи Амлинского… А те, кто пришли, сидят смиренно и стараются на меня не смотреть. И даже такие просоветские зубры, которые должны были обличительные речи произносить, как, например, Михаил Алексеев, бормочут какие-то общие слова: «Ну что же, ну, мы вынуждены исключить Гладилина из Союза писателей… Он куда хочет, во Францию? Ну, нету же во Франции Союза советских писателей, поэтому мы его исключаем». Вот и всё. И никаких проработок, никаких нравоучений. А ведет заседание Рекемчук, и ведет в мягких тонах.
Может, они боялись, что я пойду на обострение? Но раз все тихо и спокойно, я рассуждаю на литературные темы, а они слушают. В каком-то контексте я упомянул Феликса Кузнецова, который присутствовал на заседании, но рта не открывал. Он потом выскочил за мной в коридор и спросил: «Толька, а зачем ты меня упомянул?» Я говорю: «Феликс, ну что ты испугался? Я назвал тебя известным литературным критиком, и всё». Он подумал и сказал: «Ну тогда ладно». И убежал в партком. А я, признаться, никак не мог представить, что в скором времени Феликс станет главным в московской писательской организации, и наломает столько дров, и «прославится» гнусной кампанией против авторов альманаха «Метрополь». Ей-богу, такого я от него не ожидал… А пока мы сидим в комнате парткома, у всех какое-то траурное настроение, и я говорю: «Ребята, зачем вы устраиваете похороны? Жизнь длинная, может, мы все еще и увидимся?» И вдруг Саша Рекемчук, мой защитник, мой старый товарищ, мой давнишний приятель, вскакивает, лицо багровее, и начинает орать: «Вы слышите, что говорит Гладилин — „мы еще увидимся“? Значит, он думает, что советской власти не будет? Вы понимаете, что это речь врага!» Черт знает что понес! Сдали у человека нервы, в самый последний момент наложил в штаны. Но я не обиделся, я же ко всему был готов…
Через пятнадцать лет, в октябре 1991 года, я официально вернулся в Москву, поездка проходила под патронатом «Известий», и меня очень хорошо встречали: каждый день интервью в газетах, на радио, на телевидении, мой вечер в Большом зале ЦДЛ, который вели Вознесенский, Окуджава, Арканов, Веня Смехов… Я потом долго не приезжал в Россию, ибо понимал, что таких встреч больше не будет и пусть у меня останется в памяти дружественная, родная Москва. А тогда, в 91-м, мне, конечно, хотелось подойти к Рекемчуку в Доме литераторов и сказать: «Саша, а ведь я оказался прав, вот мы увиделись». Я не подошел и не стал говорить эти слова, потому что мало ли кто и когда наделал глупостей, и зачем их сейчас вспоминать.
Разрешение на выезд пришло быстро, а на сборы дали всего две недели. Началась предотъездная суматоха. Все, что люди не брали с собой в самолет, надо было заранее упаковать, привезти на таможню, там все вскрывали, просматривали и затем отправляли «малой скоростью». Чего только люди с собой не везли! Горы ящиков, чемоданов, мебель, холодильники… На таможне сплошные вопли. Я сказал «люди» — пардон, ошибся. В глазах таможенников — жиды пархатые, да еще изменники Родины, какие они люди? Поэтому и отношение соответствующее. Но со мной разговаривали вежливо. Объяснили, что книги с автографами не пропустят, есть распоряжение Совета министров. Что делать? Или везите их обратно в Москву, или сами вырезайте страницы с автографами, вот вам бритвочка. Я сидел на таможне и под бдительным присмотром вырезал первые страницы книг и прятал их в портфель. Потом они проверили (но, как я и предполагал, проверили книги моих сверстников, на книги старых писателей — Эренбурга, Катаева — даже не взглянули), помогли запаковать, а через полгода я благополучно получил эти ящики в Париже.
Вырванные страницы с автографами я запечатал в большой конверт и отнес своим друзьям-правозащитникам. Товарищи диссиденты меня заверили, что у них в американском посольстве надежный канал, по которому они пересылают пачки разных бумаг. Будь спок, ты все получишь кружным путем, через Штаты. В том, что они отнесли конверт в посольство, а посольство отослало в Вашингтон, — у меня нет сомнений. А в Вашингтоне конверт должен был вскрыть какой-нибудь советолог, и он, может, решил, что бумажкам грош цена, и выбросил их в мусорную корзину. А может, наоборот, догадался, что со временем эта коллекция приобретет цену — в буквальном смысле этого слова. Однако это область догадок. Меня было легко найти: одиннадцать лет на американской службе. Будем считать, что листки с автографами затерялись на почте…
А на московской таможне в Шереметьеве произошел любопытный эпизод. По их правилам, после завершения багажной эпопеи я должен был показать все свои таможенные декларации какому-то чину. Суровый, но довольно молодой еще таможенник смотрит бумаги и спрашивает: «Вы что, однофамилец?» Я говорю: «Что значит — однофамилец?» Он подумал. «Ага, — говорит, — вы тот самый. В вашем багаже только книги. И это всё?» Я отвечаю: «Вспомните Маяковского: „Мне и рубля не накопили строчки“». Он шлепнул на декларациях печать, вернул их мне и мрачно так говорит: «А вы-то зачем уезжаете? Вы зачем уезжаете? Вы понимаете, что таких людей у нас становится все меньше и меньше?» Вот такой был диалог, правда, с глазу на глаз. Это могла быть его личная инициатива, мог быть разыгранный спектакль, тут все может быть, я тоже немножечко в таких делах понимаю, но дать оценку, что это было, — не могу.
Я уехал после смерти мамы, члена партии с 1919 года. Пока она была жива, я никак, конечно, не смог бы это сделать, у нее был бы удар. Она до конца своих дней все-таки верила в какие-то коммунистические идеалы. А я, полный дурак, пытался с ней еще спорить, в чем-то ее переубеждать, и в ответ она начинала плакать. До сих пор мне стыдно.
Сестру мою не тронули. Она была незаменимой лаборанткой в поликлинике Академии наук. А с братом, который работал ответственным секретарем радиостанции «Юность», они круто расправились — выгнали и его, и его жену с работы. Валерия все в редакции любили, он шел на повышение. А когда выгнали с работы, у него начались серьезные мытарства. И именно в результате травли, которую ему устроили в Радиокомитете, и в результате этих мытарств тяжело заболела и умерла его жена. Валерий, что называется, «качал права», он дошел до самого Лапина, тогдашнего председателя Комитета по радиовещанию и телевидению. Лапин его принял. Валерий спросил Лапина: «Почему меня выгоняют? Чем я виноват? Это брат уехал, у брата своя жизнь. А я тут при чем?» На что Лапин многозначительно прищурился и сказал: «Но вы же его провожали в Шереметьево». То есть уже сам факт, что мой родной брат поехал меня провожать, был в их глазах, может, не уголовным преступлением, но во всяком случае поступком, который не прощался.
Много-много раз я прилетал в Вену с магнитофоном на плече, встречал видных диссидентов, писателей, художников, музыкантов, которые эмигрировали из СССР, делал с ними первые интервью. И все они рассказывали, как уезжали, и каждый отъезд был весьма драматичным, с довольно тяжелыми последствиями для близких, для тех, кто оставался на родине. И, собирая эти рассказы, я пытался понять логику поведения Софьи Власьевны. Ну да, повторяю, простых еврейцев Софья Власьевна за людей не считала. Но элитарных представителей советской культуры? Зачем им-то пакостить? Команда сверху или местная самодеятельность?
Аксенова я встречал в парижском аэропорту Орли. Аксенов прилетел со всем семейством. Сам в порядке, сразу дал интервью французскому и американскому телевидению. Молодые тоже в порядке, маленький Ванечка весело прыгает. А Майю, жену Аксенова, трясет. Я посадил их в свою машину и повез на квартиру, которую им приготовили французы. Вижу, Майю продолжает трясти. Я пытаюсь ее успокоить, дескать, все уже позади, а Вася говорит: «Не трогай ее. Над ней так поиздевались в Шереметьеве. Устроили ей личный досмотр. Понимаешь, что это такое?»
Для справки. До замужества с Аксеновым Майя была женой Романа Кармена. Кармен знал, что у него неизлечимая болезнь, знал, что у Майи любовь с Аксеновым, и попросил Майю, пока он, Кармен, жив, не оставлять его. Майя сидела у постели Кармена до его последнего вздоха, кормила, поила лекарствами.