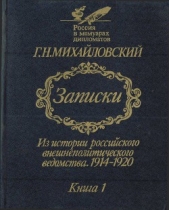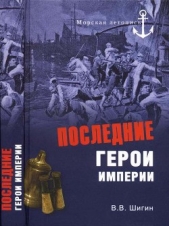Психофильм русской революции

Психофильм русской революции читать книгу онлайн
В книгу выдающегося русского ученого с мировым именем, врача, общественного деятеля, публициста, писателя, участника русско-японской, Великой (Первой мировой) войн, члена Особой комиссии при Главнокомандующем Вооруженными силами Юга России по расследованию злодеяний большевиков Н. В. Краинского (1869-1951) вошли его воспоминания, основанные на дневниковых записях. Лишь однажды изданная в Белграде (без указания года), книга уже давно стала библиографической редкостью. Это одно из самых правдивых и объективных описаний трагического отрывка истории России (1917-1920). Кроме того, в «Приложение» вошли статьи, которые имеют и остросовременное звучание.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
По складу моего духа, если бы я мог предвидеть будущее непредрешенческое течение в эмиграции, отречение от лозунга исторического девиза «За Веру, Царя и Отечество», отречение от державного гимна и все прочее, я бы решительно остался в гибнущей России, и, если бы уцелел, может быть, там лучше послужил бы русскому народу, чем в эмиграции.
Революцию я предвидел во всем ее ужасе и ненавидел ее до глубины души. К либеральным общественным деятелям, неуклонно разрушавшим Россию, я относился с глубоким презрением. С первых дней февральской катастрофы гибель России была для меня совершенно ясна. Ко всем событиям революции я чувствовал одно лишь омерзение. Вот почему странно было бы требовать от меня объективности: я шлю революции, всем ее титанам, фанатикам, мошенникам, а особенно изменникам Царю одно только проклятие.
Я пишу то, что видели мои глаза, не для розового читателя и не для непредрешенца, а потому хорошо знаю, как этот труд будет встречен. Но надо же иметь мужество хоть раз сказать правду о том, что принято замалчивать и маскировать. Я не вижу жемчужного зерна в навозной куче революции.
В самые первые дни революции я встретил одного своего ученика-студента, который с восторгом стал мне говорить о светлом празднике новой жизни. Я выслушал его спокойно и, посмотрев ему в глаза, сказал: «Разве вы не видите, что все погибло?» Он посмотрел на меня с изумлением и написал мне в своей душе приговор неисправимого черносотенца. Мы молча разошлись. Через месяц я его встретил в другой обстановке, и он сам обратился ко мне со словами: «А как вы были правы!»
К началу революции я жил в своем имении под Киевом, между станциями Дарницей и Борисполем, где мною был выстроен великолепный санаторий, в котором теперь разместился госпиталь для душевнобольных солдат с Юго-Западного фронта в 350 человек! Я предоставил государству весь санаторий, инвентарь и мой труд на все время войны безвозмездно и вел госпиталь под флагом Красного Креста в качестве главного врача. Оплачивалось только содержание больных.
Проведя первый период войны на фронте, я был потом привлечен к обслуживанию психиатрической помощью солдат Юго-Западного фронта и устроил свой госпиталь, вложив в него все достижения современной психиатрии, мой опыт и знания и все мои личные средства, которые были значительны.
Госпиталь находился в ведении главноуполномоченного Московского района А. Д. Самарина, а ближайшим моим сотрудником в качестве уполномоченного, руководившего отправкою ко мне душевнобольных с фронта, был известный психиатр профессор В. Ф. Чиж. У меня была чудесная собственная лаборатория, библиотека, и я продолжал свои научные работы, одновременно поддерживая связь с физиологической лабораторией профессора В. Ю. Чаговца. Позднее я в качестве приват-доцента Киевского университета читал там лекции по общей психиатрии и психологии, работая в физиологической лаборатории.
Будучи тем, что тогда называлось презрительным термином черносотенца, я был среди окружающих течений совершенно одинок и только в лице профессора В. Ф. Чижа имел твердого единомышленника и горячего русского патриота. Все остальное кругом было левое.
У меня был превосходный штат служащих, в большинстве испытанных моих друзей и сотрудников по прежней моей службе в качестве директора больших и хороших окружных правительственных психиатрических больниц. Были люди, которые служили со мною от десяти до восемнадцати лет. Санитары, выученные мною, были из деревни Александрова, при которой было имение моего отца, часть которого теперь находилась в моем владении. Дело было поставлено самым гуманным образом, и служащие были обставлены хорошо.
Но были среди служащих и неудачно выбранные наспех во время войны. Я не мог отказать моим друзьям, отвергнув их протекции. И между прочим мне всучили ординатора-еврея Сегалина, который оказался убогим существом и ненавистником России. Он показал свои когти с первых дней революции, а впоследствии играл роль у большевиков. Вторая моя ошибка была плодом гуманности моего брата, который был тюремным инспектором в городе Чернигове.
В черниговской тюрьме содержался каторжник фельдшер Иван Иванович Хоменко, убивший в 1905 году исправника. Он был присужден к смертной казни, но помилован и отбывал наказание в тюрьме. Это был революционер-фанатик со святыми глазами, мягким голосом, достаточно интеллигентный и хороший знаток своего дела. В тюрьме он вел себя безупречно и производил впечатление раскаявшегося. Через шесть лет мой брат выхлопотал ему Высочайшее помилование, и Хоменко был освобожден под надзор полиции.
Когда осенью 1915 года я открыл свой госпиталь, то по просьбе брата взял его на поруки и назначил фельдшером в свой госпиталь. Человек это был необыкновенно выдержанный, умный, симпатичный. Дело вел образцово. Он был женат и жил с женою в одном из моих домиков.
Как только разразилась революция, Хоменко снял маску: он оказался левым эсером и быстро вошел в связь с партией.
Как и во всех учреждениях, катастрофа не миновала и моего госпиталя: по революционному трафарету появился комитет во главе с кухаркой Галькою, выросшей на кухне моего отца. Кончилось дело так, как оно кончалось везде: полным разграблением имущества, митингованием, революционными бреднями и, наконец, экспроприацией комитетом под руководством фельдшера Хоменко моего собственного госпиталя. Я отнесся к этому философски: все равно все гибло, и вести дело было невозможно. Поэтому, сдав госпиталь, забрав часть своих вещей, я пере -ехал в Киев, где у меня была комната, и ушел в научную работу.
Не описываю разгрома моего госпиталя, потому что он ничем не от -личался от всех подобных, тогда чинимых по всей России.
В версте от моего госпиталя в своем имении жил мой отец, тогда уже глубокий старик, но его пока не трогали. Как у всякого помещика в Малороссии, у моего отца было два своих жида, Гершко и Берко, оба даже малограмотные, но чрезвычайно предприимчивые и для хозяина полезные. От отца они перешли ко мне и были мне при ведении сложного хозяйства очень полезны и честны. Комиссионную работу они выполняли в совершенстве. С бориспольскими евреями я был в хороших отношениях, и они поставляли мне все для госпиталя. Однако когда во время керенщины в 1917 году я, по установившемуся обычаю, отпустил несколько пациентов-евреев на пасху к тамошним евреям, то они вернулись в госпиталь совершенно распропагандированными. Большинство из них были симулянты.
С первых часов революции еврейская молодежь, в том числе сыновья и дочери моих жидов, сразу стали наглыми и экспансивными революционерами. В то время как молодежь бредила социализмом, их отцы бросились покупать землю, мечтая стать помещиками. Берко сейчас же купил себе хутор, ибо евреи получили право на владение землею, которого раньше вне черты оседлости не имели.
Уехав в Киев, я перестал интересоваться госпиталем, ибо не было приятно видеть, как разрушается все созданное трудом и знанием.
В Киеве во всех госпиталях происходило то же самое: расхищалось казенное имущество и воцарялось полнейшее безделье.
Казалось бы, что кое-что хорошее должна была дать революция. Возникли бесчисленные союзы врачей, в том числе союз психиатров. Конечно, на все руководящие посты выдвинулись евреи. Почти все они превратились в профессоров в нововозникшем «клиническом институте». Я принял участие в этой новой жизни, читал лекции, делал доклады в научных обществах, но мало кто в это время этим интересовался.
В моей длинной жизни, полной приключений и перемен, мне приходилось бывать в разных положениях и вести различный образ жизни. Но этот период революции в Киеве я жил совершенно мещанской жизнью. К счастью, я был совершенно одинок, и это одиночество, пожалуй, было тем, чем я больше всего дорожил. Мне было тогда 46 лет. Никем и ничем я не был связан, никому не отдавал отчета в своих действиях. Я жил на квартире у своего школьного товарища, чиновника Контрольной палаты Заламатьева. Жил он с дочерью и со свояченицей бедно. Мы были дружны и одинаково ненавидели революцию. Комната у меня была студенческая, почти без всякой обстановки; и я, привыкший к очень богатой жизни, нисколько не тяготился этим опрощением. Перезнакомился я с жильцами и часто заходил к ним на чай. Ко мне относились очень хорошо. Дома я целыми днями занимался научно, уходил только в госпиталь, в котором работал, и в физиологическую лабораторию. Долгие вечера проводил со своими хозяевами, иногда играл на виолончели. Позже я стал постоянным фаготистом в опере, и это доставляло мне большое удовольствие.