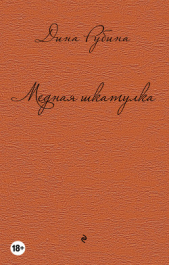Вьется нить

Вьется нить читать книгу онлайн
В предлагаемый читателю сборник еврейской писательницы Р. Рубиной «Вьется нить» вошли рассказы и повести о детстве, гражданской войне, о судьбах людей искусства и науки. Герои книги — наши современники, люди разных поколений, профессии и национальностей.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Иосиф был не столько раздосадован тем, что Мирра не справляется с ролью, сколько озадачен: он жаловался на нее так, как жалуются порой родители на собственного ребенка, который, по всему, должен бы приносить из школы пятерки, а учится на тройки.
Чем ближе к премьере, тем чаще Иосиф ходил на репетиции. Там он все больше помалкивал, хотя режиссер весьма жестоко расправлялся с текстом. Порой выбрасывал целые куски, а то и предлагал кое-что дописать. Иосиф не возражал. Как драматург он еще не приобрел уверенности в себе и соглашался со всем тем, чего требовал от него режиссер.
А дома:
— Бытовщина… Прет из каждого жеста, из каждого слова. Старый провинциальный театр, да и только. Откуда это у них берется, у этих мальчиков и девочек? Они ведь его и не видели, тот театр, не знают, чем он пахнет. — Шагая взад-вперед по комнате и все больше распаляясь: — Значит, в моей пьесе унюхали лежалое. Да, да, именно, инстинктом молодости. Моя вина… — И уже совсем растерянно, с мольбой: — Хоть ты скажи мне правду. Прочитай еще раз вот эту сцену. Нет, нет, про себя. Я не могу ее слушать. Она мне опротивела до дурноты.
А за три дня до премьеры:
— Мирра — прелесть. Нельзя только ей ничего навязывать. Справится, еще как справится…
Я пришла в театр за час до начала. Меня просила об этом Мирра. Так просто, ей хотелось, чтобы я с ней немного посидела. Мирра сказала, что любит помолчать рядом со мной.
Я тихо постучалась в дверь, вошла в узкую актерскую уборную. Мирра, не оборачиваясь, покивала мне в зеркало головой. Она накладывала на лицо грим.
Сижу за спиной Мирры. Вижу в зеркале, как лицо ее покрывается бледностью. Штрих карандашом, косой взлет бровей. Большие глаза становятся еще больше. Волосы Мирра расчесывает на прямой пробор. Целиком закрывая уши, рассекая щеки, они, резко сужая лицо, уходят к затылку. Там собираются низко, у шеи, в мягкий пушистый узел, чуть растрепанный, из которого, однако, до конца спектакля ни один волосок не выбьется.
Продолговатое, белое лицо в черной раме волос. Оно далеко от меня. Оно смотрит на меня из зеркала, словно из другого мира. Смотрит, но, пожалуй, не видит. А я боюсь пошевелиться. Понемногу переношусь мыслями к себе домой. Раз я здесь сижу лишь для того, чтобы молчать, то, может быть, я напрасно оставила Иосифа одного. Ходит там взад-вперед по комнате. Ноги у него длинные. А ходьбы всего — от письменного стола до кроватки Баеле и от кроватки до письменного стола. И в театр он, конечно, опоздает. Придет после третьего звонка, двинется в темноте к последнему ряду партера, но и там ни одного свободного местечка. Ясно представляю себе — поднимается занавес, а Иосиф застрял в узком проходе между креслами, и кто-то со злостью шипит: «Гражданин, сядьте наконец куда-нибудь. Вы мешаете».
Далекая Мирра, из зеркала, говорит мне:
— Спасибо, Лееле. А теперь иди, Иосиф, наверное, в зале. — И передернув плечами: — Здесь прохладно, правда? — Под белым слоем грима проступает бледность ее собственного лица.
Идет спектакль. Никому в зале нет дела до огорчений автора. Никто не видел красных пятен на острых скулах режиссера, никто не слышал его едких замечаний, которые порой доводят до отчаяния и его самого, и актеров.
— Вы замораживаете мне спектакль, — вопит, хватая себя за волосы, обычно корректный, с хорошими манерами Борис Семеныч. — Лед когда-нибудь тронется или это навечно?
Никакой жалости. Ничего среднего между «да» и, «нет». Среднее равняется ничему. Только «да». Хоть умрите, давайте «да». В полном изнеможении актеры покорно снова и снова повторяют реплику, диалог, а то и целую сцену. И глядишь, лед тронулся. Перерыв… Можно собраться кучкой и позубоскалить, переброситься с товарищем словцом о чем-то насущном, повседневном, не имеющем ни малейшего отношения к прерванной репетиции, можно и закусить, если не успел пообедать, а еще прежде, от полноты счастья, сделать несколько кульбитов на ковре. Кое-кто забьется в угол за кулисой — ничего не видеть, не слышать, поразмышлять наедине с собой.
Режиссер откидывается всем корпусом на спинку мягкого кресла, ненадолго прикрывает глаза. А неподалеку ждет художник с эскизами. А на столике стынет кофе, бесшумно поданный заботливой рукой. В любимой чашечке Бориса Семеныча.
Хлопок. Тишина. На сцене Мирра Закс, потерянная, испуганная.
— У меня получится, Борис Семеныч, вот увидите, получится. Дайте мне еще немного вжиться…
— Вжиться… Подумаешь, Художе́ственный театр… — в нарочитом ударении убийственный сарказм. — Куда вы девали вашу хваленую непосредственность? Запомните, актер — это человек быстрой реакции.
Незадолго до премьеры я упросила Бориса Семеныча, пустить меня хотя бы на одну репетицию. Посмотрела я две. Первая была та, с «Художе́ственным театром», на которой я исстрадалась душой за Мирру. А потом конечно же — генеральная. Казалось бы, насмотрелась, наслушалась. Тем не менее сейчас, на премьере, я вся во власти удивительных превращений людей, которых я хорошо знаю, нередких гостей в моем доме. А как же незнакомые с ними, просто купившие билет в кассе и сидящие теперь в зале? На них спектакль обрушивается всеми своими неожиданностями. По соседу справа и по соседу слева от меня я вижу, что зритель, пожалуй, еще в большей степени, чем актер, человек быстрой реакции.
Финальная сцена спектакля. Пустынность… Тишина… На сцене никого, кроме Мирры Закс. Лицо ее обращено к публике. Руки с длинными разъятыми пальцами словно пригвождены к красной кирпичной стене. Руки плачут, руки негодуют. Несколько секунд неподвижности, и одинокая женская фигура в овале света начинает, не отнимая рук с разъятыми пальцами, передвигаться вдоль стены. За ней следует изломанная, ее собственная тень. Несколько шагов, уже безо всякой опоры, вдоль правой кулисы. Женская фигура тает, становится все меньше и меньше. На землю опускается маленькая девочка, раненый ребенок. Еще какой-то момент Мирра Закс держит публику под гипнозом огромных трагических глаз. Затемнение. А потом свет, уже в виде круга, подскакивает к маленькому оконцу под самым потолком. В этом оконце мужское лицо, разлинованное в решетку. От лба к подбородку, от глаз к вискам, от губ к щекам. Свет перемещается на белый экран. На нем четко выведено черным: «Меня убили. Я жив».
У Иосифа широкий шаг. Иосифу весело. И он мчится на своих длинных ногах как ошалелый. Не замечает, что я от него отстаю. Он что-то сказал, а слова его растворились в пространстве. Я ничего не расслышала.
Смеюсь:
— Ты стареешь, Иосиф. Разговариваешь сам с собой. Скажи лучше мне…
Иосиф подхватывает меня под руку, и мы с ним несемся посреди улицы, между спящими домами. Нога в ногу. Тонкая пленка льда, покрывшая к вечеру мостовую, трещит у нас под ногами. И ноги, пружиня на быстром ходу, радуются: «Весна, весна на дворе!»
Не припомню, чтобы я когда-либо в жизни говорила столько, сколько в тот вечер. Да и не вечер это был, стрелка часов давно передвинулась за полночь. А я все захлебываюсь словами, боюсь опустить хоть малую малость. Я рассказываю Иосифу, что говорили люди в зале, что слышала за кулисами. Хорошее говорили, только хорошее.
— Ты обратил внимание, Иосиф? Когда закончился спектакль…
— Обратил. Даже испугался… Страшно ведь, правда? Занавес опущен, а в зале тишина. Вдруг эти аплодисменты… Все стоят… — Тут же, несколько поостыв: — И то сказать, на вешалку никто особенно не торопился. Из молодежи многие пришли без пальто. Тепло ведь…
А я с досадой:
— Перестань, ты же сам видел, все доходило. И не усмехайся, не о тебе одном речь. Как аплодировали закату во втором акте, слышал небось…
— Слышал… Разговор между мужем и женой, которые сидели впереди нас. Муж горестно вздохнул: «Если бы джемпер такой, вот это да…» Проняла его таки игра красного на голубом. А жена ему коротко и ясно: «Идиот!»
— Вот видишь, — обрадовалась я, — ее и в самом деле проняло.