О нас – наискосок
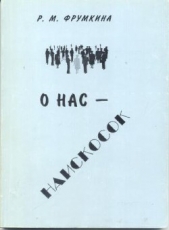
О нас – наискосок читать книгу онлайн
Сюжетообразующим стержнем мемуаров Ревекки Марковны Фрумкиной, ученого с мировым именем, основателя крупной исследовательской школы в лингвистике, были и остались занятия наукой. Занятия остро конфликтные, за которые приходилось расплачиваться дорого — здоровьем, потерей близких. Ей посчастливилось учиться у крупнейших лингвистов и математиков, участвовать в становлении математической лингвистики, опровергнуть свои же собственные результаты и написать книги, которые в Ленинке держали в открытом доступе, но в специальном шкафу, чтобы их не уворовывали читатели.
Драма, о которой пишет Р.М. Фрумкина, растянулась на многие десятилетия сороковых, пятидесятых, шестидесятых, семидесятых, достигла своего апогея в восьмидесятых годах и привела к развалу школ, утечке блестящих умов, личным катастрофам, разочарованиям и невосполнимым потерям. Ее отголоски различимы и сейчас в попытках разгрома факультета лингвистики РГГУ, собравшего в 1990-х разрозненные осколки научного сообщества.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Критика на наших сборищах могла быть разносной, но это не мешало неизменно дружелюбному общему духу. Особую важность для становления лингвистов моего поколения имели этические нормы, установившиеся в этом новом сообществе. В огромной степени мы обязаны этим нашим учителям — таким людям, как А. А. Ляпунов, П. С. Кузнецов, А. А. Холодович, А. А. Реформатский, В. Н. Сидоров, М. М. Бонгард. (О трех последних я расскажу во второй части моих очерков.)
Все эти ученые, безусловно, принадлежали к научной элите. Как подлинные русские интеллигенты, они были людьми социальными. Именно осознание своей социальной миссии отличает элитарную интеллигенцию от высоколобых зазнаек. Наличие таких людей и организует ученых в ценностную среду, которая может быть названа научным сообществом. Эта среда живет по неписаным законам, которые составляют научно-этическую традицию. Неважно, сколько людей образует такую среду в рамках конкретной области знания — их может быть десять и меньше. Важен их научный и нравственный потенциал. Именно он предохраняет общество от распада ценностных ориентиров.
Поэтому уход из жизни таких людей приводил к тому, что целые научные направления не могли в дальнейшем существовать в прежних очертаниях.
Институт и вокруг
Лучшими временами в жизни двух наших институтов — Института языкознания и Института русского языка — были годы между 1958-м и 1965-м. Структурная лингвистика расцветала. Правильнее, впрочем, было бы сказать, что любая настоящая лингвистика тогда склонна была объединиться под эгидой «структурализма», понимаемого скорее как опознавательный знак. Настоящее внимание к структурализму sensu stricto, т. е. к тому, как соответствующие темы обсуждались в 30-е годы, пришло несколько позже и было связано со следующим этапом эволюции нашей гуманитарной науки — с выходом на авансцену семиотики.
В конце 50-х и начале 60-х годов лингвистика стремилась обрести черты зрелой науки — с определенными требованиями к описанию, с четким различием между фактами и гипотетическими построениями, с жесткостью формулировок. Структурная лингвистика именно в силу своей подчеркнутой научности, в отличие от идеологически препарированной гуманитарии, была вне вкусов, вне партий, вне идеологии. Было много конференций, где при некотором сумбуре, характерном для эпохи «бури и натиска», видно было биение живой мысли и желание успеть узнать и понять как можно больше. Хотя я и мои ровесники и были очень молоды и не слишком умудрены, но все же осознавали, что, помимо разрушения стереотипов, мы участвуем в создании не просто новой науки, но способствуем построению обобщенной модели для новой науки, свободной от идеологических догматов. Почти все мы друг друга близко знали, охотно читали работы еще в рукописях, делились мыслями и ценили критические замечания.
В особняке на Волхонке, где в большой тесноте, но в достойной атмосфере жили оба академических института, постоянно что-то происходило. Эта жизнь (во всяком случае, моя) нисколько не походила на популярные в нашей литературе описания будней типичного НИИ. Слоняющиеся без дела сотрудники, перекуры у мужчин и обсуждения тряпок у женщин, несчастные эмэнэсы, глупые и вальяжные доктора наук — все это было не про нас.
Работали мы действительно много. Игорь Мельчук обдумывал свои статьи, бегая из угла в угол и корча зверские рожи. Потом он садился и писал сразу начисто чеканные тексты, которые мы по очереди читали и сопровождали пометками на полях. К А. А. Реформатскому в присутственный день с утра выстраивалась очередь из многочисленных учеников, аспирантов и особенно привечаемых им «русских девок» — молодежи из Института русского языка.
Я любила неприсутственные дни. Тогда я оставалась в нашей маленькой комнате одна и могла писать. Ко мне часто заходил Петр Саввич Кузнецов, который работал в основном в МГУ, но в нашем институте бывал регулярно. Реформатский дружил с ним всю жизнь. Он и Макаев звали Петра Саввича Петей, а мы — в знак особой нежности — за глаза звали его Петя Саввич.
Петр Саввич был как бы немножко ребенок — в нем была необыкновенная непосредственность. И еще он был как бы чудак — потому что писал детективные романы и стихи. Последние он охотно читал и иногда дарил. Я любила его стихотворение, начинающееся строкой «Не оступитесь, лестница узка!». Мне всегда представлялось, что это как раз та узкая и очень крутая лестница, которая вела вниз, в нашу библиотеку.
Петр Саввич был одним из основателей Московской фонологической школы. Познания его были удивительны. В докладе по русской фонетике вполне можно было ожидать примера из суахили. Мыслил он очень ясно и крупно, а рассказывал довольно-таки сбивчиво. Самой интересной частью его докладов было введение. Оно выглядело примерно так: формулировалась главная тема и далее перечислялись сюжеты и эпизоды, так или иначе с ней связанные. По поводу каждого из них Петр Саввич замечал: «Но об этом я сегодня говорить не буду». Мы так разбаловались, что иногда просили: «Петр Саввич, расскажите, о чем вы сегодня не будете!..» Петр Саввич выглядел очень пожилым человеком, хотя ему было немногим за шестьдесят. У него была семья, но главой этой семьи был не он, а его жена. В институте не было ни столовой, ни буфета, и я обычно приносила с собой много еды с расчетом на долгое сидение. Рядом с нашей комнатой был огромный кипятильник. Я поила Петра Саввича чаем и убеждала съесть хотя бы бутерброд, потому что приезжал он к нам с Ленинских гор. Он раньше или позже соглашался, смущенно упоминая, что жена дает ему деньги только на проездной билет.
Много времени я проводила на третьем этаже, в Секторе «Словаря языка Пушкина», а точнее — в кабинете, где работали В. Н. Сидоров и И. С. Ильинская. С Сидоровым меня познакомил Петр Саввич. Но об этом я расскажу отдельно.
По случаю «красных дней» мы устраивали капустники. Я часто писала для них тексты. Капустники могли быть довольно-таки ядовитыми. Доставалось более всех, конечно, старшим, потому что они были узнаваемы.
Одно из удачных представлений имело главной героиней Ольгу Сергеевну Ахманову. Человек она была в высшей степени своеобразный — при несомненном уме и незаурядности, она была так искусна в интригах и так театральна, что я никогда не ждала от нее чего-либо доброго. Ахманову изображала Кира Филонова. С присущим ей артистизмом и элегантностью Кира стояла на кафедре и поигрывала дешевыми бусами, которые на глазах превращались в известное всем ахмановское ожерелье. Она говорила: «Знаете, я вчера была на докладе — ах, эти сердитые молодые люди от лингвистики! Совершенно непонятно, но безумно интересно!» Последняя фраза к Ахмановой приклеилась. Она сама этому способствовала, поскольку обладала недюжинным здравым смыслом и по поводу сплетен о своей персоне всегда говорила: «Лучше плохо, чем ничего». Мои друзья с филологического факультета говорили, что Ахманова обожала пересказывать, как мы ее изобразили: это подтверждало ее уникальность.
И все же именно Ахмановой мы трое — И. А. Мельчук, Е. В. Падучева и я — обязаны выходом в 1961 году нашей первой книги «О точных методах исследования языка». Почему возник план этого издания и каким образом он был реализован — я не знаю. Ахманова написала для книги одну главу, и притом довольно невнятную. Главы, написанные Мельчуком и Падучевой, и сейчас заслуживают внимания. Моя — в значительной мере устарела.
Именно потому, что это была первая книга в новой области, она обратила на себя внимание. Ее тут же перевели на английский и издали в Америке. К тому времени уже открылись два отделения, готовившие студентов по специальности «Структурная и прикладная лингвистика», — одно в МГУ, другое — в МГПИИЯ. Первое со временем стало знаменитым ОСИПЛом. (О роли ОСИПЛа см. выступления участников Круглого стола «Фундамент и этажи», «Знание — сила», 1989, 6.)
Наша книга 1961 года попала в основной список учебных пособий. Мы, можно сказать, прославились. (Позже в такой же список была включена моя книга 1964 года «Статистические методы в изучении лексики».) Мне это было полезно, потому что позволило рано понять, что подобного рода известность — это малоценные побрякушки.


























