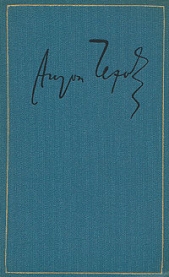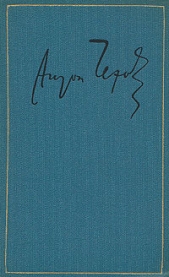«Девочка, катящая серсо...»
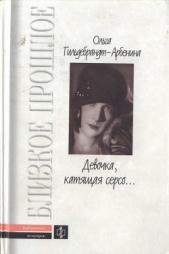
«Девочка, катящая серсо...» читать книгу онлайн
Ольга Николаевна Гильдебрандт-Арбенина (1897/98–1980) до недавнего времени была известна как муза и возлюбленная H. Гумилёва и О. Мандельштама, как адресат стихотворных посвящений поэтов серебряного века… Однако «Сильфида», «Психея», «тихая очаровательница северной столицы», красавица, актриса, которую Гумилёв назвал «царь-ребенок», прежде всего была необычайно интересным художником. Литературное же наследие Ольги Гильдебрандт впервые собрано под обложкой этой книги. Это воспоминания о «театральных» предках, о семье, детстве и юности, о художниках и, наконец, о литературно-артистической среде Петербурга-Петрограда второй половины 1910-х — начала 1920-х годов и ее знаменитых представителях: Гумилёве, Мандельштаме, Блоке, Кузмине, Мейерхольде, Юркуне, Глебовой-Судейкиной, о доме Каннегисеров… Часть текстов публикуется впервые. Содержание книги дополняет богатый иллюстративный материал, включающий не только портреты и фотографии героев воспоминаний, но и репродукции акварелей Ольги Гильдебрандт.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Я выговорила все это Гумилёву. Где и как, не помню, но помню, как на Бассейной (не на нашей стороне, а на обратной) Гумилёв при мне выговаривал Осипу, а я стояла ни жива ни мертва и ждала потасовки [119]. Георгий Иванов увидел эту сценку и, сплетничая, прибавил: «Я слышу страшные слова… предательство… и эта бедная Психея тут стоит».
Я не думаю, чтобы Гумилёв думал, что у меня роман с Мандельштамом. Он его не считал способным на реальные романы.
Как я стала ходить с Юрой? Я не помню тоже. Уже зимой, вероятно. Время покатилось, как снежный ком, стремительно и как-то оглушительно.
«Царь-ребенок» — дикое для меня замечание Гумилёва о какой-то моей манере отбрасывать в стороны, как какой-то «Навуходоносор» или разве что «Клеопатра». Так не делают покорные и льнущие женщины… Но разве я что-нибудь подобное могла?..
Гумилёв любил врать и сочинять. Я помню, он как-то мне сказал, что прочел мои стихи Блоку и они ему понравились. Я будто обрадовалась, но не слишком-то верила. После он признался, что не читал Блоку: «Но вы были такая грустная, и я не знал, чем вас развеселить».
Он всегда очень почтительно говорил о своей матери (редко, правда, мы говорили), но как-то вспомнил о легкомыслии своего отца, который как-то советовал ему и старшему брату Дмитрию не очень строго смотреть на хорошенькие лица, потому что «иногда дурнушка окажется очень приятной» (слов, точно, не помню).
Как-то он смеялся: «Я многим девушкам предлагал отправиться со мной в путешествие, но клянусь: поехал бы только с вами! Вы так быстро и много бегаете — бегом по всем пустыням…»
Он часто довольно говорил мне: «Кошка, которая бродит сама по себе». — «О, мой враг, и жена моего врага, и сын моего врага…» (Я не была самостоятельной в жизни, но во мнениях — всегда. Думаю, меня легче было уговорить украсть и даже убить, — чем сказать, что я люблю то, чего не люблю. Так и докатилась до валькирии…)
А нежно называл, как Бальзак Ганскую: «Моя атласная кошечка».
Как-то мы с Мандельштамом были в Мариинском театре. Сидели в ложе, а вблизи, тоже в ложе, была Лариса Рейснер. Она мне послала конфет, и я издали с ней раскланялась (Осип бегал к ней здороваться). Потом он был у нее в гостях и рассказал мне, что она плакала, что Гумилёв с ней не кланяется. Он вообще неверный. Будто Осип спросил ее: «А как же Ольга Николаевна?» Она ответила: «Но это же Моцарт» [120].
Растроганная, я стала бранить Гумилёва за то, что он «не джентельмен» в отношении женщины, с которой у него был роман. Он ответил, что романа не было (он всегда так говорил), а не кланяется с ней потому, что она была виновата в убийстве Шингарева и Кокошкина [121] {167}.
Я не могла понять, что в Африке бывают ритуальные убийства. Черная магия. Может быть, это не имело связи — трехпалый цыпленок? Что это вызвало у него — объединить меня и Мандельштама как язычников — «вам мрамор и розы». Я забыла более точно, почему [122].
Он на мои «державные» покушения сказал: «Единственно кого бы я вам разрешил, это Лияссо — император Эфиопии». — «Да нет, конечно, нет, — ведь у него сифилис» [123].
Я всегда вела себя очень искренне, что потом так было по душе Юре; но, может быть, в отношениях с Гумилёвым нужна была большая хитрость, даже Аня врала, хоть и глупей была. А девицы той эпохи все играли в «кого-то». Я бы могла еще сильнее «закрутить» своего Гумилёва, хотя в том периоде было достаточно его любви и даже верности!.. [124] Какой-то злой рок вытянул меня из моей жизни и втянул в другую. Мне было трудно. Очень. «Иосиф, проданный в Египет, не мог сильнее тосковать…» {168} Почему-то вспоминались (потом) эти слова.
А его слова: «Не было, нет, и не будет…»:
Все кончилось.
Как началось с Юрой? Разговоры были. Что я могла рассказать? Бегали мы с Юрой. Наверное, в католическое Рождество. Стихи Кузмина: «Любовь чужая расцвела — Под Вифлеемскою звездою…» {169} Мы с Юрой говорили о героинях Шекспира — Розалинде и Виоле {170}. Все, что я помню. Гумилёв преподнес мне целый букет пакостей про Юру. (Верно, все верно! толку мало было.) [125] В мемуарах Одоевцевой — ее неожиданный приход «на Рождество» к очень печальному и мрачному Гумилёву [126]. Он ей так обрадовался и был так ей благодарен, что будто бы снял со стенки картину Судейкина из рамы и подарил ей {171}. Я помню потом это отверстие в стене — и мои слезы, вероятно, последние, в квартире Гумилёва [127]. Я сказала: «Теперь все кончено».
Радовался Мандельштам: «Юрочка такой бархатный». Юра был не бархатный, а железный. Выбросил из моей жизни и Гумилёва, и Мандельштама.
Отчего начались все эти предсказания? Почему? Я не помню. Гумилёв говорил угрожающе, прямо как Отелло. Я ничего не предполагала. (Может быть, у меня были тайные мысли, что, если он женился на Ане и меня не ждал, — он обязан вытерпеть мой флирт с Юрой?) Тон его речей был странен. Он меня пугал, что его ревность разгорится и потом рассыплется, как пепел. Так было с Ахматовой. И еще там с кем-то… О чем он намекал? О Мандельштаме? О Юре? Я, кажется, смеялась. Я привыкла быть для него «певучей девочкой» и «счастьем», и эти дикие разговоры меня (будто бы) и не испугали.
Я помню еще и такую фразу: «Я не позволю вам с ним ничего, не только дружбы, даже простого знакомства». «Когда я на вас женюсь, я…» (Я имела такт не добавить: «слава Богу, я еще не ваша жена…») «Я, в конце концов, позволю вам Козлинского, если вам так надо!» (!!! Мне надо? при его арабском темпераменте?!!) [128]
Почему он все пугал меня и не сказал ни слова о себе?
Почему он не сказал простых русских слов, вроде «не уходи» или «не бросай меня»? Что это, гордость? Стыд? Отчего можно говорить раболепные слова, когда надо добиться того, чтобы уложить в постель, и не сказать ни слова, чтобы остановить свою женщину? Как он нисколько — ни капли — не верил в мою любовь?.. Я думаю теперь, надо было меня избить [129] и бросить на пол, а потом легче было бы ему просить прощения, и я обещала бы ему всё, всё (и всё выполнила!).
Вероятно, злая судьба надругалась над нами обоими, и мы оба пошли к своему разрыву, и он — к своей смерти.
Когда мы пошли встречать Новый год в Доме литераторов и я зашла к нему, чтобы идти вместе на эту встречу, ничего не было решено. Мне кажется, и с Юрой не было никакой договоренности. У меня было розовое платье. Кажется, мы собирались «доканчивать» Новый год у Оцупа. У меня не было предчувствия. У него не было особенных злых слов. Мандельштам не встречал Нового года в Доме литераторов. Жестокость в поведении Гумилёва была одна — дикая, непонятная. Я говорила: «Потом, — я приду». Но я все же ничего не предположила.