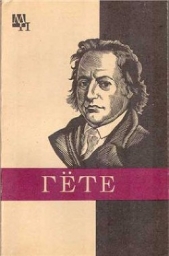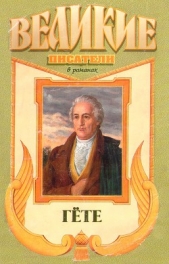Гёте. Жизнь и творчество. Т. I. Половина жизни

Гёте. Жизнь и творчество. Т. I. Половина жизни читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
1 «Трактат по маго–кабалистике» (лат.).
2 «Золотая цепь Гомера» (лат.).
110
взаимодействии и единстве. Так мы, то в одиночку, то вместе, немало времени тратили на эти диковинные сочинения…» (3, 289).
В «Илиаде» Гомера (песнь 8–я) отец богов Зевс говорит о золотой цепи, спускающейся с неба, и для герметиков эта золотая цепь Гомера стала символом нерасторжимой взаимосвязи всех существ, от самых высших до самых низших, а также непрерывной преемственности идей всех мудрецов на протяжении веков. «Aurea catena Homeri, или Описание происхождения природы и природных вещей», книга, вышедшая анонимно в 1723 году, является кладезем подобной мудрости; Гёте вспоминает о ней с особым чувством. Все взаимосвязано со всем — такова натурфилософская идея этого произведения, которое в отличие от «Opus» Веллинга не имеет теософского направления. Из праматерии возникли четыре стихии; взаимопереходы возможны; все сущее состоит из основных элементов, и тем самым минералы, растения и животные сродни друг другу.
В «Поэзии и правде» подчеркивается сильное влияние, оказанное на Гёте другим произведением: «История церкви и еретиков» Готфрида Арнольда. В ней уделено внимание именно тем мыслителям, теологам, группам и сектам, которые стояли вне признанных вероисповеданий, так что, как пишет Гёте, читатель этого обширного двухтомного произведения (отец Гёте обладал изданием 1729 года) узнавал правду о тех еретиках, которых до сих пор представляли безумцами или безбожниками. И затем Гёте подводит итог: «Во всех нас заложен дух противоречия и любви к парадоксам. Я старательно изучал различные мнения, и так как мне не раз приходилось слышать: каждый человек в конце концов имеет, мол, свою собственную религию, то мне показалось вполне естественным сочинить таковую и для себя, что я и сделал с превеликим увлечением. В основе ее лежал неоплатонизм, к которому примешались элементы герметизма, мистицизма и кабалистики. Так я построил для себя мир довольно причудливый и странный» (3, 295—296).
Следующий затем набросок «личной» религиозной космогонии примечательным образом завершает восьмую книгу.
Если надлежащим образом рассмотреть результаты, очевидно, серьезных занятий юного Гёте герметической философией, то его письмо к Лангеру от 17 января 1769 года, в котором он говорит: «Спаситель уловил
111
меня», читается не как приятие христианского вероучения с Иисусом во главе. «Кальцинация» означает в алхимии первую ступень очищения; на вере в божественность воскресшего Иисуса Гёте никогда не настаивает; и слово «Спаситель» не обязательно должно относиться к Иисусу, оно может, как в Ветхом завете, обозначать бога, а здесь, может быть, бога в герметическом смысле — в значении дух и жизнь. Христиане–герметики не колеблясь обозначали философский камень как «природного Спасителя». И слова «вечный источник» не обязательно должны относиться к Христу, а просто могут указывать на божественное. (В таком понимании слова «Спаситель» можно быть, однако, уверенным лишь в том случае, если Гёте, изъясняющийся намеками, уже раньше, возможно в декабре, действительно испытал действие универсального средства и уже познакомился с герметизмом. Указание на это есть, но бесспорных доказательств нет.)
Мир юного Гёте, каким он предстает на последних страницах восьмой книги «Поэзии и правды», действительно «довольно причудливый и странный». Это не позднейшая «конструкция» писателя — множество доказательств, относящихся к ранним годам, подтверждают это; скорее, взгляды, сложившиеся в юности, сохранились в основном до старости. «Я тщился вообразить себе божество, извечно само себя воспроизводящее, но так как воспроизведение немыслимо без многообразия, то это божество неизбежно должно было предстать перед собою как нечто второе, нам ведомое под именем сына божия. Отныне они оба были призваны, продолжая акт воспроизведения, предстать перед собою уже в качестве третьего, столь же неизменного, живого и вечного, каким является целое» (3, 296).
Тем самым круг божества замкнулся. Но потребность в воспроизведении не иссякла, и потому было создано четвертое: Люцифер, которому «отныне была передана вся созидательная сила, и от него впредь должно было исходить все остальное бытие». Но он захотел полной самостоятельности, стал следовать только принципу концентрации, «сладостное восхождение к первоисточнику» иссякло у его творений. Из этой концентрации «произошло то, что мы понимаем под материей, все, что представляем себе тяжелым, твердым и мрачным. Но и материя, если не непосредственно, то все же по прямой линии происходящая от божества, так же безусловна, всесильна и извечна, как ее родители и прародители». Этому сотворенному не
112
хватало «лучшей половины, ибо в нем было все, что может дать концентрация, сплоченность, и не было ничего, что дает экспансия, распространение». Некоторое время Элохимы (то есть три названные вначале существа) наблюдали это положение, но затем «они одарили бесконечное бытие способностью распространяться и восходить к первоистоку; необходимый пульс жизни был восстановлен, и сам Люцифер не мог уже избегнуть его воздействия. В эту эпоху появилось то, что мы называем светом, и началось то, что мы привыкли обозначать словом «творение». Но как ни разнообразилось час от часу творение благодаря неиссякающей жизненной силе Элохимов, все еще не было сотворено существо, призванное восстановить изначальную связь с всевышним. И вот был создан человек, во всем сходствующий с божеством, более того — ему подобный, который, однако, именно поэтому вновь оказался в положении Люцифера, то есть был одновременно и безусловен и ограничен…» (3, 297).
Истинный пульс жизни: концентрация и экспансия, воля к самоутверждению и открытость в отношении к целому — вместе они и есть закон жизни; и, таким образом, это «вменяет нам в долг возвышаться над собою и, стремясь воплотить великие замыслы господни, то заставляет нас уходить в свою сущность, то — через равномерные промежутки времени, — напротив, отрекаться от своей обособленности» (3, 298).
Эту философски–спекулятивную «личную» религию, которая сложилась у Гёте в годы его болезни во Франкфурте и в которой проявилось его отрицательное отношение к герметическим взглядам на Бога, мир и величайшие жизненные силы, Гёте — этот ищущий — скорее тогда скрывал, чем открыто исповедовал. В ней было слишком много личного, она слишком явно черпалась из источников, не принадлежащих к признанным руководствам по вопросам религии или науки, чтобы юный ученик решился всякому открыть свои знания и веру. И главное, эта «собственная религия» была первым результатом еще неуверенных разведок в новых областях, различного рода попыток, включавших даже алхимические опыты на собственной печурке. И в страсбургский период химия оставалась его тайной страстью, как он писал фрейлейн фон Клеттенберг, в то время как «общение с благочестивыми людьми» «не очень продвигается» (26 августа 1770 г.). Импульсы, исходившие от доктора Метца и герметических сочинений, продолжали действовать; но уверен–113
ным в познании бога, природы и человека Гёте себя тогда еще не чувствовал. Как и прежде, еще робки неопределенные замечания в письме к Лимпрехту на страстную пятницу 1770 года: «Каков я был прежде, таков я и ныне, только что с господом богом я в лучших отношениях и с его дражайшим сыном Иисусом Христом. Из этого следует, что я немножко умнее стал и понял, что это значит: страх господень — начало мудрости. Конечно, мы поем осанну тому, кто грядет…» (13 апреля 1770 г.).
То, что Гёте получил от герметизма, заслуживает внимания; но отнюдь не все, о чем юный студент размышлял, говорил и что поэтически выражал, может быть сведено к нему, хотя трудно не поддаться искушению и не искать повсюду герметических идей. Поскольку герметизм всегда имеет дело с миром в целом, повсюду, где речь идет о важных явлениях и процессах, всплывают его термины, понятия, образы. Их значение, однако, часто так широко, что не обязательно искать в них герметического содержания. Можно понятие «радость» в герметической модели, сопоставляющей различные области жизни, трактовать как выражение экспансии, распространения. Но в XVIII веке было широко распространено и выражено во многих стихотворениях и другое понимание радости, не имеющее в себе герметического начала. Когда выздоровевший Гёте пишет из Страсбурга: «Небесный врач вновь усилил огонь жизни в моем теле, и вновь обрел я мужество и радость», то здесь перед нами, конечно, герметическое понятие «огонь жизни», но из–за этого не следует каждое поэтическое выражение со словом «огонь» или его производными приписывать герметическому духу и толковать их только на этот лад.