Партер и карцер. Воспоминания офицера и театрала
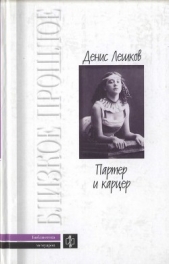
Партер и карцер. Воспоминания офицера и театрала читать книгу онлайн
Записки Д. И. Лешкова (1883–1933) ярко рисуют повседневную жизнь бесшабашного, склонного к разгулу и романтическим приключениям окололитературного обывателя, балетомана, сбросившего мундир офицера ради мира искусства, смазливых хористок, талантливых танцовщиц и выдающихся балерин. На страницах воспоминаний читатель найдет редкие, канувшие в Лету жемчужины из жизни русского балета в обрамлении живо подмеченных картин быта начала XX века: «пьянство с музыкой» в Кронштадте, борьбу партий в Мариинском театре («кшесинисты» и «павловцы»), офицерские кутежи, театральное барышничество, курортные развлечения, закулисные дрязги, зарубежные гастроли, послереволюционную агонию искусства.
Книга богато иллюстрирована редкими фотографиями, отражающими эпоху расцвета русского балета.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
На 5-й неделе поста Л. А. Рославлева исполнила свое обещание и приехала для участия в двух благотворительных спектаклях. Я и Выходцев сделали ей визит в Европейской гостинице, где муж ее, известный драматический артист П. М. Садовский, напоил нас какими-то особенными, привезенными из Москвы ликерами.
На 4-й неделе поста мне пришлось познакомиться с А. П. Павловой, переменить совершенно о ней мнение, стать самым преданным ее поклонником и другом. Это вышло очень просто. Как-то после завтрака, на котором я и Савицкий отдали особенную честь Бахусу, мы решили, дабы для полноты коллекции иметь и портрет с подписью Павловой, купить карточки и прямо отправиться к ней. Это было довольно нахально входить в дом к женщине, не будучи знакомым и чувствуя, что она знает нас как поклонников и приверженцев Кшесинской и ее врагов, но тем не менее мы купили по две довольно скверных и неудачных ее фотографии и приехали на Свечной пер., д. № 1. Швейцар доложил, что «барыня дома-с», и мы с порядочным апломбом вошли в гостиную, где уже сидел, впрочем скоро ушедший, какой-то господин. Мы представились и заявили, что просим к этим карточкам приложить руку. Она, против ожидания, приняла нас более чем любезно, была все время очень мила и вдобавок к этим карточкам прибавила еще по одной роскошной и очень удачной фотографии. После получасового разговора я уже с удивлением смотрел и слушал эту любезную, умную и прямо-таки прелестную женщину. Мы просидели у нее битых два часа, и я ушел совершенно очарованный. Только здесь в ее домашней обстановке я понял, что сильно ошибался в определении ее личности, и только тут рассмотрел, как интересна, до редкости интересна и оригинальна эта женщина. Потом в весеннем сезоне я внимательно рассмотрел ее на сцене и точно также понял, что ужасно заблуждался, а когда 2 мая она первый раз выступила в роли Пахиты, я понял, что это выдающийся молодой талант нашей сцены, стал постепенно делаться все больше и больше ее поклонником и чаще и чаще бывал у нее. Кончил тем, что окончательно влюбился в нее и как в женщину, и как в артистку. В следующем сезоне, смотря в «Жизели» ее мимику и игру сквозь свой 12-дюймовый бинокль «Браунинг», я прямо поражался, как мог я раньше не заметить этой звезды 1-й величины, и сожалел своему отчасти навеянному партийностью галерки ослеплению. Этот мой переход (собственно, перехода не было, но, признавая Кшесинскую, я стал признавать и Павлову) все же поразил и удивил господ «павловистов», долго смотревших на это с недоверием и опаскою. Вскоре я с Павловой стали большими друзьями, она часто мне писала, и отношения эти продолжаются и посейчас.
На 6-й неделе состоялся ежегодный экзаменационный спектакль балетного отделения Театрального училища. Я и Савицкий (мы помирились с ним, будучи оба в восторженном состоянии после объяснения с Кшесинской) с большим трудом попали на этот спектакль. Из всех экзаменовавшихся мне ни одна танцовщица не понравилась. Среди публики же в одном из антрактов я и Савицкий все время ходили за тремя барышнями, интересными и весьма скромно одетыми. Одна из них в черном платье, в трауре, особенно почему-то мне нравилась, и я дал себе зарок во что бы то ни стало познакомиться с ней. Это оказалась танцовщица Е. Д. Полякова и носила траур по смерти отца. Та же, которая привлекла Савицкого, была Л. Ц. Пуни. Эти две и В. М. Петипа 3-я все время вместе ходили и сидели в одной ложе и оказались тремя закадычными подругами, которые держались в труппе несколько отдельно от всех. Следующий антракт я, выходя из ложи М. Кшесинской, встретился глазами с Поляковой, и почему-то долго друг на друга смотрели в упор. Тут она мне еще больше понравилась, и я решил познакомиться и ухаживать.
На 7-й неделе мы стали ходить в церковь Театрального училища, но, конечно, отнюдь не с целью говеть и молиться, а главным образом потому, что большинство танцовщиц там говели. В страстной четверг я после немалых трудов протискался поближе к «триумвирату» (Полякова, Петипа и Пуни) и в течение всей службы не сводил с них глаз. Она, по-видимому, усердно и благочестиво молилась, следя по книжке за читаемыми 12-ю Евангелиями, и когда несколько раз невольно, как будто под действием магнетизма, отрывалась от книги и встречалась со мной глазами, то, как мне показалось, смущалась и опускала глаза. Эта игра продолжалась довольно долго, и когда наконец в перерыве она потушила свечу и стала в упор смотреть на меня, то тут уже я не выдержал и опустил глаза. Сколько мне помнится, из всей этой службы я не расслышал буквально ни единого слова священника, и весь мундир мой оказался потом закапанным воском. Савицкому повезло меньше, и Пуни, один раз презрительно на него посмотревши, демонстративно повернулась.
Впоследствии мне удалось с Поляковой познакомиться, я стал довольно часто бывать у нее, ухаживал, подносил цветы, конфеты и пр., но потом появился бывший в провинции ее жених, и все понемножку расстроилось.
Страстная неделя в Театральном училище поистине весьма веселое время, особенно заутреня под Пасху. Здесь, обыкновенно, набирается огромное количество публики, так что заполняются вся церковь, коридор, обе танцевальные залы и даже часть дортуаров мужского балетного отделения. Самая веселая компания собирается в танцевальных залах, куда не достигает ни один звук богослужения. Здесь все время идет болтовня, которая прерывается около 12 часов крестным ходом, за которым все со свечами весело идут по училищу, и, наконец, кто-нибудь восклицает, что «уже воскрес», и тогда начинается христосованье, обыкновенно сопровождающееся тем, что артистки отказываются целоваться и удирают, но их ловят где-нибудь в углу коридора и танцевальной залы и все-таки целуют, да не 3, а 10 раз.
В первый день Пасхи я с утра, облекшись в новый мундир, разъезжал с визитами ко всем танцовщицам и опять убеждал христосоваться, что иногда и удавалось.
М. Ф. Кшесинская всем нам подарила по очень хорошей большого формата своей фотографии с трогательными надписями. После Пасхи в воскресенье открылись снова спектакли, на которые мы кинулись как голодные волки, впрочем их было всего 6. Почти после каждого из этих весенних спектаклей 1904 года составлялась довольно большая компания преимущественно из нашей молодежи и балетных артистов и устраивались весьма веселые ужины. Это были довольно безобразные оргии, на которых во славу дорогого хореографического искусства выпивалось колоссальное количество водок и вин. Но особенно памятен был последний и самый большой ужин, состоявшийся после закрытия сезона. Это было задумано еще за неделю, и собирались по подписке деньги на осуществление. Так как моя родня уехала уже на дачу в Павловск, то я предложил для этого свою обширную, но пустую квартиру. Впрочем, были взяты напрокат столы, стулья, ковры, посуда, пианино, мебель и все необходимое. Предстояло «дело под Полтавой», ибо одних водок и крепких вин было куплено на 72 рубля. Квартира наша была на самой площади Мариинского театра, что было особенно удобно. Я как хозяин и инициатор этого дела был с головы до ног в заботах последние 3 дня. Наконец по окончании последнего в сезоне балета («Конек» с Седовой) вся ватага участвующих и многие приглашенные артисты, переправившись через площадь, наполнили квартиру, и началось такое пьянство, какого я не запомню подобного в жизни. По строго заведенному правилу все ужины наши начинались с тостов, следующих в определенном порядке, как-то: за Мариуса Петипа (по одной рюмке), за М. Ф. Кшесинскую (по три рюмки), за Преображескую, Петипа I, Павлову, Трефилову, всех солисток и т. д. В этом ужине мы дошли до последних корифеек (а если принять во внимание, что всех артисток балетной труппы около 70, то дойти до корифеек — это действительно нечто колоссальное). Таким образом в течение первого получаса ужина было уничтожено с лица земли 3 четвертных водки. (Нас было 23 человека.) Что было дальше, трудно описать, более веселого ужина я не помню во всю жизнь, и хотя публика и была вся без исключения здорово пьяна, но все же после пломбира и шампанского танцевали, пели и выкидывали такие номера, что остальная часть зрителей валялась на полу от хохота. Я, Мурашко и Балабанов в течение всего вечера играли попеременно на рояле исключительно балетную музыку. Около 3-х часов утра трое из компании, найдя, что необходимо разбавить мужской элемент присутствующих дамским обществом, отправились в буфф и привезли оттуда трех очень интересных и прелестно одетых кокоток. Это еще более придало веселья вечеринке, и она продолжалась благополучно до 8 ½ часов утра, когда, ко всеобщему удовольствию, во время жженки нашли одного танцовщика заснувшим, сидя на блюде с пломбиром, а Савицкий с другим пошли гулять по площади в костюмах Адама. В 10-м часу утра многие остались у меня «почивать», и все мы располагались по квартире самым живописным образом, причем я проснулся около 2-х часов под пианино, а под головой у меня вместо подушки был большой кусок телятины; но когда я пошел будить остальных, то хохотал как сумасшедший, ибо те остальные 6–8 человек спали в еще более карикатурных положениях. Я почему-то сел за письменный стол и написал А. Павловой самого отчаянно любовного характера письмо и отправил немедленно с посыльным. Около 3-х часов мы вымылись, вычистились, выпили по рюмке водки для опохмёля, и я отправился на Варшавский вокзал провожать Павлову, ибо она уезжала за границу. Она, когда я поздоровался, долго смотрела на меня как на рехнувшегося и потом стала упрашивать, чтобы я не делал глупостей, не пьянствовал, писал бы ей, и обещала часто мне писать, поцеловала меня в лоб и уехала.

























