Партер и карцер. Воспоминания офицера и театрала
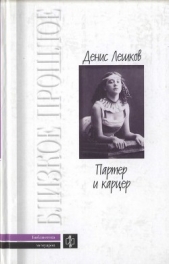
Партер и карцер. Воспоминания офицера и театрала читать книгу онлайн
Записки Д. И. Лешкова (1883–1933) ярко рисуют повседневную жизнь бесшабашного, склонного к разгулу и романтическим приключениям окололитературного обывателя, балетомана, сбросившего мундир офицера ради мира искусства, смазливых хористок, талантливых танцовщиц и выдающихся балерин. На страницах воспоминаний читатель найдет редкие, канувшие в Лету жемчужины из жизни русского балета в обрамлении живо подмеченных картин быта начала XX века: «пьянство с музыкой» в Кронштадте, борьбу партий в Мариинском театре («кшесинисты» и «павловцы»), офицерские кутежи, театральное барышничество, курортные развлечения, закулисные дрязги, зарубежные гастроли, послереволюционную агонию искусства.
Книга богато иллюстрирована редкими фотографиями, отражающими эпоху расцвета русского балета.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Так счастливо закончился инцидент, который чуть не испортил всю мою репутацию.
Прощальный бенефис Кшесинской. — Триумфальное шествие примадонны. — Поездка в Москву на бенефис Е. В. Гельцер
Жизнь в училище в этот период времени тоже вся как бы насыщается балетом и его отголосками. Появилась книга «Наш балет» Плещеева, которую я читал постоянно по ночам на дежурствах и чуть что не выучил наизусть.
С 1 февраля началась горячка в приготовлениях к прощальному бенефису М. Кшесинской. Мне пришла в голову мысль отблагодарить ее за милое к нам отношение и любезность в смысле доставания для нас мест и лож на спектакли. Я пустил подписной лист между юнкерами, конечно, исключительно знавшими ее и пользовавшимися этой ее любезностью. На собранные деньги решено было поднести хорошую корзину цветов с лентой. 3 февраля корзина, весьма внушительных размеров, была приобретена. На красной ленте, обвивающей ее, была надпись золотом «От юнкеров-константиновцев» и пришпилен погон училища, на задней стороне которого на серебряной доске были выгравированы наших 9 фамилий. 4-го, в день бенефиса, мы все были как-то нервно настроены и по окончании лекций, быстро одевшись, отправились с Савицким в нашу пивную, где, запершись в отдельном кабинете, стали придумывать, что бы выкинуть на бенефисе особенного, такого, чтобы доказало ей наше искреннее увлечение ее талантом и вместе с тем возвысило бы все приготовленные в ее честь овации. Наконец решили, собравши подходящую компанию, по окончании спектакля отпрячь у кареты лошадей и довезти ее до дому на руках, как это было уже сделано во времена оны с Вержинией Цукки и потом в бенефис В. Ф. Комиссаржевской.
Спектакль был действительно выдающийся. При появлении бенефициантки встречные аплодисменты не смолкали в течение 4-х минут, и Дриго тщетно поднимал палочку и опять опускал ее, покоряясь расшумевшейся публике. Каждая вариация была сплошным триумфом, и, наконец, во втором антракте подняли занавес для публичного чествования. Сцена представлялась настоящим садом живых цветов, ибо стояло, как говорили, 86 корзин живых и искусственных цветов, поднесенных от публики. Посредине стоял длинный стол, уставленный сплошь футлярами и ящиками с драгоценными подарками, и, наконец, более 300 человек чествующих с депутатами от всех трупп Петербурга, Москвы и даже западноевропейс<ких> городов. Чествование продолжалось более часа. Читали бесконечное количество адресов, стихотворений, посвящений и речей, подносили венки, целовались, плакали и смеялись. Говорили М. Петипа, Гердт, Дриго, Морозов, Тартаков, Потоцкая, Балетта, Гельцер, Южин, Карпов, Кугель, Плещеев, Абаза, Кауфман и пр. и пр. Наконец взвился занавес и в оркестре полилась «Лебединая песня» Чайковского. Среди публики были такие, которые буквально плакали, и среди действия не раз раздавались восклицания в разных местах театра: «Не уходите!» Это было поистине торжественное и трогательное зрелище.
Что делалось потом на артистическом подъезде — не поддается никакому описанию. Это была настоящая «ходынка». Мы при появлении Кшесинской моментально окружили ее железным, в восемь звеньев, кольцом, и только таким образом ее не задавили поклонники. Несколько раз в течение адски медленного движения от выхода из уборных до кареты мы чуть что не шашками защищали ее от этой толпы в 300–400 человек, и когда усадили в карету и приставили почетный караул к каждой дверце, то, несмотря на сопротивление конной полиции, в один момент согнали с козел кучера и выпрягли лошадей. Затем началось триумфальное шествие вокруг театра и по Офицерской. Я все время шел около открытого окна с правой стороны, помогая двигать карету за ручку, и разговаривал с Кшесинской, которая была страшно взволнована и тронута такой неслыханной овацией. В середине Офицерской, пройдя тюремный замок, главная масса везущих, состоявшая из людей всех возрастов и положений (тут были и убеленные сединами старцы, почтенные чиновники, пажи, юнкера, офицеры и учащаяся молодежь), решила, что балерина может простудиться, долго находясь в карете с открытыми окнами, и потому перешли для скорости с шага на рысь и наконец на галоп. Трудно описать эту картину. Это было какое-то небывалое публичное движение, ибо карета, везомая людьми, составляла центр громадной толпы экипажей, карет и извозчиков и целых потоков пешеходов, двигавшихся по обоим тротуарам и сзади. Вся эта толпа махала шапками, платками, зонтиками и приветствовала бенефициантку.
Когда мы привезли карету к дому, то на Английском проспекте уже ожидала порядочная толпа народу и стоял наряд полиции. Расчистивши проход от дверцы кареты до входа в подъезд, отворили карету и провели Кшесинскую, которая вся в слезах жала руки направо и налево и благодарила за такую честь, которой, как она говорила, она не стоила. Долго еще потом толпа не расходилась, аплодируя и вызывая ее у окна, в котором она показывалась несколько раз и раскланивалась.
Мы явились в училище во втором часу ночи и почти до утра не раздевались, обмениваясь впечатлениями, сидя на сундуках и распивая чай. На следующий день я проспал на всех лекциях и даже ухитрился на строевых занятиях задремать в строю, и чуть не слетел с лошади.
5-го числа лекций не было, ибо начинались экзамены и шла подготовка. Юнкера разбредались по всему училищу и лениво читали лекции и записки по артиллерии, ибо подготовки было 10 дней, из коих 5 дней отпускных ввиду Масленицы. Я и Савицкий забрались в самый конец столовой и, усевшись между двух орудий за маленьким столом, больше курили и разговаривали, чем читали записки по артиллерии. Около 11 часов принесли почту, я пошел вниз за письмами и газетами и, придя обратно, стал просматривать «Петербургскую газету» [39] и случайно увидел заметку, сообщавшую, что сегодня М. Ф. Кшесинская уезжает на один день в Москву для участия в бенефисе Е. В. Гельцер, и показал Савицкому.
Он прочел, и мы молча, посмотревши друг на друга, угадали нашу общую мысль, и что оригинальнее всего, даже не сказав ее вслух, стали просто обдумывать, как достать нужную для этого сумму денег, ибо за последние дни сильно поиздержались и сидели без финансов. После часового обсуждения мы кое-что придумали и, одевшись быстро по окончании строевых занятий, сели на извозчика и поехали к Соловьеву, Крауту, Державину и другим нашим поставщикам. К 6-ти часам сумма была в кармане, и мы, пообедавши у меня дома, поехали на Николаевский вокзал и взяли билеты 2-го класса до Москвы. На дебаркадере [40] мы встретили Виноградова, Выходцева, Балабанова и других поклонников М. Ф., явившихся ее провожать. Выходцев сообщил мне, что он, Виноградов и Балабанов едут, и просил не говорить об этом остальным. В 8 часов, с последним звонком, мы пятеро вскочили в вагон и, послав остальным воздушные поцелуи, уехали. М. Ф. должна была отправиться идущим следом за нами курьерским поездом.
Это была одна из веселых поездок в моей жизни. В Любани мы «сильно поужинали» и <долго> играли в вагоне, в отдельном купе в стуколку. На больших станциях в Бологом и Твери посылали телеграммы в следом идущий поезд с пожеланием всяких благ и благополучного пути. Мы прибыли в Москву на 45 минут раньше курьерского поезда и успели съездить в цветочный магазин и приобрели большой букет сирени и гвоздики, и встретили М. Ф. на вокзале. Затем, позавтракав в кафе Филиппова на Тверской, сняли номер в гостинице «Кремль» на Александровском проезде, осмотрели достопримечательности Кремля, были в Третьяковской картинной галерее, пообедали у себя в номере, опять сильно выпив за успех предстоящей гастроли, и вечером, заплативши барышнику 36 рублей за довольно скверную ложу 2-го яруса, явились в театр, заказавши предварительно корзину живых цветов и вложивши в нее конверт со своими визитными карточками. В партере было человек 20–30 петербургских балетоманов, приехавших вместе с М. Ф. По окончании ее вставного pas de deux мы не сочли нужным досматривать «Баядерку» с Е. В. Гельцер, демонстративно вышли посреди действия из ложи, хлопнув дверью, и вышли на артистический подъезд. Встретив на подъезде М. Ф., устроили ей маленькую дружескую овацию и отправились с ней одновременно прямо на вокзал, причем я с Выходцевым ехали на рысаке, которого так гнали, что лошадь чуть не пала, и все же перегнали гельцеровских рысаков с каретой, в которой ехала М. Ф., и подъехали первыми к вокзалу. Я помню, как меня тронуло и привело в восторг то, что, несмотря на массу цветочных подношений, она, уезжая, все время держала и время от времени нюхала пачку гвоздик и сирени из нашего утреннего букета. Савицкий, у которого был срочный билет, уехал с ней в одном поезде, а мы четверо остались <в> Москве до другого дня с целью посмотреть идущего на другой день утром «Конька-Горбунка» с ныне покойной Л. А. Рославлевой. Печальные и грустные, молчаливо вернулись мы в свой номер и за ужином напились. На другой день, купивши 4 кресла, отправились на «Конька». Мне понравилась грандиозная московская постановка этого балета, который у нас идет гораздо проще и в сильно сокращенном виде.

























