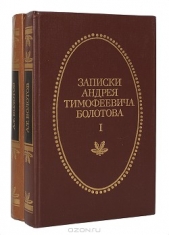Жизнь и приключения Андрея Болотова. Описанные самим им для своих потомков

Жизнь и приключения Андрея Болотова. Описанные самим им для своих потомков читать книгу онлайн
Автор этой книги Андрей Болотов — русский писатель и ученый-энциклопедист, один из основателей русской агрономической науки.
Автобиографические записки его содержат материалы о русской армии, быте дворян и помещичьем хозяйстве. Он был очевидцем дворцового переворота 1792 года, когда к власти пришла Екатерина II. Автор подробно рассказывает о крестьянской войне 1773–1775 годов, описывает казнь Е. И. Пугачева. Книга содержит значительный исторический материал.
1738–1759 гг.
А. Т. Болотов
Жизнь и приключения Андрея Болотова. Описанные самим им для своих потомков
Болотов А. Т. Жизнь и приключения Андрея Болотова: Описанные самим им для своих потомков: В 3 т. Т. 1: 1738–1759 / Вс. ст. С. Ронского; Примеч. П. Жаткина, И. Кравцова. — М.: ТЕРРА, 1993.
Часть выпущенных глав добавлена по:
Издание: А. Т. Болотов в Кенигсберге (Из записок А. Т. Болотова, написанных самим им для своих потомков). Калининград, Кн. Из-во, 1990.
Остальные главы добавлены по первому изданию «Записок» (Приложения к "Русской старине", 1870).
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Шествие наше или поход простирался самым тем же путем, которым мы шли в Курляндию, а именно через Ригу, Дерпт, Нарву и в Петербург. Во время сего путешествия не помню я ничего особливого и достойного, кроме того, что по приходе к пограничному городу Риге полку нашему велено было иттить чрез город церемониею, и я первый раз от роду был в строю и в сержантском мундире и с маленьким ружьишком вел свой взвод. Боже мой, какое было для меня тогда удовольствие! Мне казалось, что на меня весь город тогда смотрит, как и действительно видел я весьма многих, на меня указывающих и говорящих:
— Ах! какой маленький сержант!
В тогдашние времена и действительно было сие в диковинку и в великую редкость.
Мы дошли до Нарвы благополучно, но тут у покойного родителя моего произошла какая-то ссора с нарвским комендантом Штейном за шествие через город церемониею; немец комендант вздумал было строить капризы и требовал чего-то многого, а родителю моему не хотелось удовлетворить излишнего его честолюбия. Тот запер ворота и не пустил чрез крепость, а сей, почтя за обиду, вошел в письменные команде представления, и так произошла у них вражда; но чем дело сие кончилось и кто из них остался прав, кто виноват — не знаю, а известно мне, что было только много переписки и что мы вскоре после того пришли в Петербург.
В сем столичном городе стоял полк в сей раз недолго, ибо ему назначено было иттить к Выборгу, и так простоял он тут несколько дней. Но в нашем доме и с семейством произошла в немногие сии дни великая перемена: родитель мой решился мать мою с меньшею замужнею сестрою, которая была с нами, отпустить из сего места в деревню за Москву с тем, чтоб она заехала в деревню к сестре моей, где она еще не бывала, а более для того, что она была беременна и почти на сносях, а меня расположился оставить в Петербурге и отдать в какой-нибудь пансион учиться французскому языку. Он имел у себя близкого родственника, живущего тогда в Петербурге и служившего в. конной гвардии ротмистром: то был господин Арсеньев, по имени Тарас Иванович. Он был двоюродный брат отцу моему и в малолетстве своем живал у него и воспитывался; они любили друг друга очень, и потому вознамерился он поручить ему меня на руки. При вспоможении его тотчас был приискан пансион и учитель и тотчас с ним обо всем нужном условлено и договорено. Наилучшим пансионом почитался тогда в Петербурге тот, который содержал у себя кадетский учитель старик Ферре, живший подле самого кадетского корпуса и в зданиях, принадлежащих к оному; в сей-то пансион меня и отдали.
Легко можно вообразить себе, что как я тогда принужден был разлучиться вдруг и с отцом и матерью и в первый раз остаться один и находиться от обоих их в удалении, то сей пункт времени был для меня весьма тягостен, и что прощание с моими родителями было весьма трогательно и плачевно. Меня отвезли на Васильевский остров, а в тот же час и родитель мой с моею матерью, которая с сего времени его уже более и не видала, ибо судьбе было угодно, чтоб прощание их друг с другом было в сей раз последнее. Какое счастье для смертных, что они не знают ничего из будущего! Какими слезами не преисполнено б было сие расставание, а если б было известно, что оно последнее в жизни!
Поелику жизнь моя с того времени получила новый образ и вид, то окончу я сим и письмо мое, сказав вам, что я навсегда пребуду ваш… и прочая.
ЖИЗНЬ В ПАНСИОНЕ
ПИСЬМО 11-е
Любезный приятель! Итак, по отъезде матери моей в деревню, а родителя с полком — в Финляндию, остался я один в Петербурге, посреди людей, совсем мне незнакомых, и власно, как в лесу. Не могу никак забыть того дня, в который привезли меня в дом к учителю и оставили одного: мне казалось, что я находился совсем в ином свете и дышал другим воздухом: все было для меня тут дико, все ново и все необыкновенно. Я принужден был начать вести совсем нового рода жизнь, и совсем для меня необыкновенную: не мог я уже ласкаться, чтоб мог пользоваться той негою, какою наслаждался в родительском доме. Маленькая постелька и сундучок с платьем составляли весь мой багаж, а дядька мой Артамон был один только мой знакомый, прочие же все были незнакомы, и я долженствовал со всеми ознакамливаться и спознаваться, а особливо с теми, которые тут также по примеру моему жили.
Учеников было тогда у учителя моего человек с двенадцать или с пятнадцать; некоторые были на его содержании, а другие прихаживали только всякий день учиться, а обедать и ночевать хаживали домой. Из числа первых и знаменитейших из всех был некто господин Нелюбохтин, сын одного полковника гарнизонного, да двое господ Голубцовых, которые были дети одного сенатского секретаря. Сии жили вместе со мною, и каждому из нас отведена была особливая конторочка в том же покое, где мы учились, досками отгороженная. Мне, как новичку и притом полковничьему сыну, отведена была наилучшая вместе с господином Нелюбохтиным, который был мальчик нарочито уже взрослый и притом тихого и хорошего характера, и. потому я скоро с ним спознакомился и сдружился. Голубцовы были также меня старее, ибо мне было только 10 лет от роду, однако уже не таковы, как Нелюбохтин. Одного из них звали Александром, а другого позабыл. Я познакомился скоро и с ними, ибо были они не из числа дурных детей. Что ж касается до приходящих к нам учиться, то были они разные, и между прочим одна нарочитого уже возраста девушка, дочь какой-то майорши; по проишествии долгого времени позабыл я, как ее звали, только помню, что она при мне недолго училась, а и прочие из приходящих часто переменялись и то прибывали, то убывали. Как мне никто из них не был слишком короток, то и не помню я из них почти ни одного, что и неудивительно по моему возрасту.
Учитель мой был человек старый, тихий и весьма добрый; он и жена его, такая же старушка, любили меня отменно от прочих. Он сам нас мало учивал, потому что по обязанности своей должен был всякий день ходить в классы в кадетский корпус и учить кадетов, и так доставалось ему самому нас учить двенадцатый час да в вечер еще один час. Прочее же время учил нас старший из его сыновей, которых было у него двое. Одного звали Александром, и он был нарочито уже велик и мог уже по нужде обучать и был малый изрядный, а другой еще маленький, по имени Фридрих, и малый огненный, резвый и дурной; за резвость и бешенство его мы все не любили.
Что касается до содержания и стола для нас, то был он обыкновенно пансионный, то есть очень, очень умеренный; наилучший и приятнейший кусок составляли булки, приносимые к нам по утрам и которыми нас каждого оделяли. Они были, по счастию, отменно хороши, и хлебник, пекущий оные, умел их так хорошо печь, что мне Хороший вкус их и поныне еще памятен. Обеды же были очень, очень тощи и в самые скоромные дни, а в постные и того хуже. Но привычка чего не может сделать! Сколько сначала ни были мне такие тощие обеды маловкусны, однако я наконец привык и довольно бывал сыт, а особливо когда поутру либо лишнюю булочку, либо скоромный прекрасный кренделек купишь и съешь, которые так нам казались вкусными, что подберешь и крошечки; нередко же случалось, что иногда и ложка, другая, третья хороших щей с говядиною, варимых для себя слугою моим, помогали обеду, и которые нередко казались мне вкуснее и сытнее всякого обеда.
Как я учению французского языка начало сделал еще в Курляндии и тут стоило только продолжать оный, то успех учения моего был весьма хорош. Я столь был понятен и прилежен, что менее нежели в полгода обогнал моих сотоварищей и сделался первенствующим в школе, и каков был ни мал, но мог всем указывать и за всеми поправлять. Учение наше состояло наиболее в переводах с русского на французский язык Езоповых басней и газет русских; и метода сия недурна: мы через самое то спознакомливались от часу больше с французским языком, а переводя газеты, и с политическим и историческим штилем и с званиями государств и городов в свете.
Как обещано было, чтоб выучить меня и географии, то чрез несколько времени принял учитель наш или пригласил какого-то немца, чтоб приходил к нам и учил нас часа два после обеда сей науке. Для меня была она в особливости приятна и любопытна, я пожирал, так сказать, все говоренные учителем слова, и мне не было нужды два раза пересказывать. Европейская карта, которую он одну нам только и трактовал, впечатлелась так твердо в уме моем, что я мог всю ее пересказать по пальцам. Но жаль, что учение сие недолго продолжалось: не знаю и не помню, что тому причиною было, что он ходил к нам не очень долго, почему и учение было весьма слабое и короткое. Со всем тем получил я чрез сей случай нарочитое о географии понятие, но что более моей удобопонятности, охоте и любопытству приписывать должно; а судя по учению, то оное не принесло б мне дальней пользы, так как прочим пользовало оно очень мало.