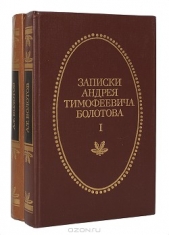Жизнь и приключения Андрея Болотова. Описанные самим им для своих потомков

Жизнь и приключения Андрея Болотова. Описанные самим им для своих потомков читать книгу онлайн
Автор этой книги Андрей Болотов — русский писатель и ученый-энциклопедист, один из основателей русской агрономической науки.
Автобиографические записки его содержат материалы о русской армии, быте дворян и помещичьем хозяйстве. Он был очевидцем дворцового переворота 1792 года, когда к власти пришла Екатерина II. Автор подробно рассказывает о крестьянской войне 1773–1775 годов, описывает казнь Е. И. Пугачева. Книга содержит значительный исторический материал.
1738–1759 гг.
А. Т. Болотов
Жизнь и приключения Андрея Болотова. Описанные самим им для своих потомков
Болотов А. Т. Жизнь и приключения Андрея Болотова: Описанные самим им для своих потомков: В 3 т. Т. 1: 1738–1759 / Вс. ст. С. Ронского; Примеч. П. Жаткина, И. Кравцова. — М.: ТЕРРА, 1993.
Часть выпущенных глав добавлена по:
Издание: А. Т. Болотов в Кенигсберге (Из записок А. Т. Болотова, написанных самим им для своих потомков). Калининград, Кн. Из-во, 1990.
Остальные главы добавлены по первому изданию «Записок» (Приложения к "Русской старине", 1870).
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
В сем-то месте и в сие-то время впечатлелись в меня первейшие склонности к наукам, искусствам и художествам, продолжавшиеся потом во всю мою жизнь и производившие мне столь бесчисленные и приятные часы и минуты в жизни. Всему хорошему, что есть во мне, начало положилось тут, а сверх того имел я и ту пользу, что, живучи в таком порядочном доме, имел я первый случай узнать и получить понятие о жизни немецких дворян и полюбить оную.
Я жил и учился тут во все то время, покуда полк наш стоял в Курляндии, что продолжалось более года. В сие время нередко видался я с моими родителями; они жили сначала все в том же местечке, куда приехала потом и большая моя сестра с мужем. Для сего свидания обыкновенно езживал я к родителям с моим дядькою, летом верхом или в одноколке, а зимою в пошевенках [52] и, пробыв у них воскресенье, возвращался обратно к понедельнику на свою мызу.
Самые сии недальние, по частые переезды и путешествия и подали случаи к некоторым особливым и хотя не важным, однако таким со мною около сего времени приключениям, которые так впечатлелись в мою память, что я и поныне их забыть не могу, и к коим наиболее характер дядьки моего был поводом.
Сим дядькою, у меня был один из служителей нашего дома, по имени Артамон. Он был сын старухи, бывшей у покойной родительницы моей еще нянею, и человек не глупый, умеющий грамоте, ходивший за мною довольно изрядно, но подверженный той проклятой слабости, которой так многие наши рабы подвержены бывают: то есть, любил иногда испивать. Другой порок в нем был тот, что он чрезвычайно любил курить табак; впрочем же был лучший у нас слуга, и любил меня как должно; что ж касается до меня, то я любил, его чрезвычайно, но это и не удивительно, потому что он всегда за мною ходил, а тогда и жил только один со мною в чужих людях. Одно из вышеупомянутых приключений было следующее.
Некогда, побывав у родителей моих, случилось мне с ним из Бовска поехать обратно на мызу, в одноколке. Было то летом, и не рано, а часа за полтора или за два до вечера. Одноколка была у нас с ним легонькая мызеничья, в одну лошадь, и я обыкновенно сиживал в ней, а он у меня позади и правил. Сим образом бывало мы с ним одни и едем, и дорогою обыкновенно о чем-нибудь разговариваем. Он читывал довольно наших церковных книг, и часто рассказывал мне все, что знал о сотворении мира, о потопе и о прочем, относящемся до библейской истории, которая была ему нарочито сведома. И я могу то в похвалу ему сказать, что первейшими понятиями о создании мира, а отчасти и о законе обязан я ему, а потому и слушивал я всегда его с удовольствием, и мне с вышепомянутым образом ездить никогда было не скучно.
Но в сей раз случилось совсем тому противное. Пред самым отъездом, какому-то приятелю захотелось его поподчивать и вкатить в него рюмки две-три лишних. Мы не знаем того не ведам, и ни мне и никому иному и в ум не приходило заприметить, что дядьека мой был и в то уже время на девятом взводе, как я садился в одноколку. Но не успел я с ним выехать, как его так начало разнимать, что я, каков ни мал был, но мог уже приметить, что дядька мой пьян. Вскоре после выезда надлежало нам переезжать реку Муху, и спускаться подле развалин замка, под гору; уже и тут он меня напужал, будучи не в состоянии довольно сильно держать лошадь, которая чуть было нас с ним не опрокинула. Однако как бы то ни было, но мы реку благополучно переехали, и поднялись на гору. Тут к несчастию моему случись корчма; дядька мой не успел ее увидеть, как захотелось ему выпить винца еще. Он стал меня уговаривать, чтоб я подержал на минуту лошадь, а он зайдет на часок в корчму и раскурит свою трубку. Я хотя и догадывался, что у него не трубка на уме, и хотя старался его уговаривать, чтоб не ходил, однако просьбы мои остались тщетны. Он пошел себе в корчму и я принужден был нехотя стоять и его дожидаться. Что он там делал, того уже не знаю, но после нескольких минут возвратился с трубкою во рту, но при том гораздо уже пред прежним пьянее, и так, что почти на ногах стоять не мог. Обмер я, испужался сие увидев, и не знал, что мне с ним делать; ехать еще было очень далеко, я легко мог заключить, что править лошадью был он совсем не в состоянии. Назад возвращаться было также уже версты три и при том переезжать опять реку и страшную гору. Сверх того не хотелось мне и на гнев привесть моих родителей, и дядьку своего наказанию подвергнуть. Сколько мне ни горестно и не досадно на него было, однако при всем том было его жаль. В сей крайности находясь, решился наконец я посадить его с собою в одноколку, и предавшись в волю судьбы, продолжать путь далее и править уже лошадью самому. Время тогда было хорошее, дорога гладкая и мне довольно знакомая, а и вечер еще был не слишком близок, и так, думал я, поеду себе потихоньку, авось-либо как-нибудь доеду и его довезу. Но тут великого труда мне стоило преклонить его к тому, чтоб он сел рядом со мною. Пьяные обыкновенно много о себе и о силе своей думают, и так насилу-насилу я его уговорил и посадил с собою, но что ж воспоследовало?
Не успели мы еще версты отъехать, как дядьку моего уже не путем и так розняло, что он не в состоянии был и одного слова порядочно выговорить, а более мычал, нежели говорил. От вихляния и качанья его во все стороны я приходил ежеминутно в страх и трепет, того и смотрел, что он у меня полетит чрез голову из одноколки. Я поддерживал его сколько было силы, но как выбился из сил, а притом приметил, что он дремлет, то уговорил его, чтоб он к одному углу прилег и себе заснул. Он тому и рад был, а мне хотя и тесно было уже сидеть, но я также рад был уже тому, что он заснул и захрапел как боров, и я не имел нужды его держать.
Сим образом продолжая путь потихоньку, доехали мы с ним благополучно до одного большого и густого леса, который находился уже неподалеку от нашей мызы, простирался версты на три длиною и сквозь который надлежало нам необходимо проехать, и притом узкою, дурною и колеистою дорогою. До сего места ехали мы все-таки хорошо, дорога была гладкая, лошадь смирная, ехали мы все полями и лугами и притом днем и еще засветло; но как пред въездом в сей лес уже начало смеркаться, то стал я уже и заботиться о том, как бы скорее проехать лес, а притом гораздо уже и потрушивать. Густота высокого леса темноту вечернюю умножала еще больше, и нагоняла на меня тем паче ужас, что мне никогда еще не случалось бывать одному в таком лесу, и еще одному, ибо дядька мой что был, что нет, все равно, он храпел только и спал наиспокойнейшим образом, как убиты. К вящему несчастию пришло мне на память, что я слыхал, что в сем лесу водилось множество волков. Сие еще меня пуще смутило и озаботило; я не знал, что делать и рассудил испытать, не могу ли я разбудить моего спутника; но он так крепко почивал, что все кликанья, трясенья и толканья ни малого не производили действия: он вовсе их не чувствовал и только что сопел. Тогда перетрусился я еще того больше, ибо до того все-таки надеялся, что его разбужу и мне с ним с несонным не таково страшно будет ехать.
Между тем ночь приближалась уже скорыми шагами. Сумерки уже оканчивались и становилось уже совсем темно, а мы еще и половины леса не проехали, а только добрались до самой его густоты и дурнейшего места. Тут восхотелось мне еще раз испытать его пробудить, я собрал все свои силы сколько их ни было, и не пронявшись трясением и токанием, начал его приподнимать, но самым тем все дело еще хуже испортил. Несчастие мое хотело, чтоб самое то время, когда я с ним сим образом возился, вогнало одно колесо одноколки моей в преглубокую колею, и одноколку мою от того в ту сторону, где он сидел, так качнуло, что он полетел как чурбан чрез колесо и прямо в грязь. Не могу вспомнить, как я тогда испужался, и надивиться тому, как он и меня с собою не утащил. Но как бы то ни было, но я остался почти висящим на одноколке и столько еще имел памяти, чтоб остановить лошадь. По особливому счастию сия была весьма смирная скотина, и тотчас велению моему повиновалась. Я сошел тогда с одноколки, старался еще всячески разбудить моего товарища и спутника: но он так был пьян и так спал крепко, что и самое падение не могло его растрогать. Он лежал себе в грязи, как на мягкой постели, и ни о чем не помышлял, только всхрапывал. Тогда потребен был для меня хороший совет: но к несчастию мне дать было его некому, а сам я был еще слишком к тому мал, чтоб мог придумать, чтобы мне в таком случае сделать было лучше. Правда, мне и пришло было на мысль, чтоб, оставя его тут, сесть опять в одноколку и ехать одному до мызы, и оттуда прислать за ним, чтоб и лучшее было средство. Но статочное дело, чтоб я мог тогда на сие отважиться и решиться. Любовь к дядьке моему не так была мала, чтоб я мог оставить его одного, и в таком состоянии в лесу: я не инако заключил, что его съедят тут волки и потому тотчас сию мысль откинул, а приступил к делу самому детскому, совсем невозможному и силы мои превосходящему, а именно, я начал его совсем бесчувственного тащить ближе к отъехавшей на несколько шагов одноколке, и возмечтал себе, что я могу его как-нибудь поднять и положить в оную. Но всякому можно рассудить, в силах ли я был сие сделать и не тщетно ли мое было предприятие. Но как бы то ни было, однако я приступил к сему делу, и не зная даже, страх ли, или самая крайность нужды, силы мои столько подкрепила, что я хотя с превеликим трудом, однако кое-как дотащил его до одноколки, и, приподняв верхнюю половину тела, прислонил уже к оной. Легко можно рассудить, что сей необъятный для меня труд меня крайне изнурил, я запыхался насмерть и сделав сие, принужден был отдыхать и собирать вновь силы, чтоб докончить желаемое предприятие. Но я, сколько бы ни старался, но верно бы его не исполнил, ибо на одноколку поднять не было уже никакой для меня возможности, и я истинно не знаю, чем бы кончился мой тщетный труд, если б в самое то время, как только начал я с дядькою моим вновь ворочаться, новый нечаянный случай всего намерения моего не разрушил, и смятения моего и страха еще больше не умножил. Откуда ни возьмись и порхни из-за куста какая-то большая птица, и думать надобно, что сова: лошадь моя, стоявшая до того как вкопаная, какова была ни смирна, но нечаянным шумом и шорохом сим так была испугана, что вдруг шарахнулась и что ни есть мочи с одноколкою поскакала и оставила меня одного с упавшим опять в грязь и спящим моим дядькою.